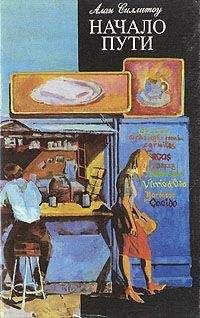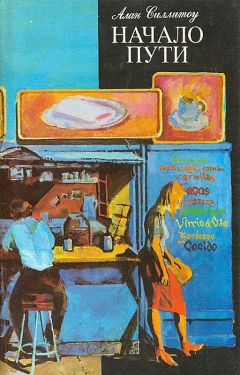Я опустил голову, прикинулся эдаким любящим.
- Жалко, что ты так настроена. Я не хотел тебя растревожить. Я думал, может, мы опять будем вместе. Затем и приехал. Я всегда был в тебя влюблен, сама знаешь, и сейчас тоже, хоть ты и подставила мне подножку, вышла за Элфи. Я уж не виноват, что ты меня не дождалась.
- Ох, да какой же ты поганый! - взвыла Клодин, да так громко-мимо шли женщины, нагруженные рыбой и хлебом, она уставились на нас во все глаза.
Клодин заплакала и пошла от меня, и даже малышка стала буянить под корзинкой со всякой бакалеей.
Я повернул назад, глядел ей вслед, и погано было у меня на душе.
Конечно, я поступил с ней как последний гад и здорово жалел об этом, но у ней-то, по крайней мере, теперь есть дочка и муж. И такая меня взяла досада - жуть. Я весь вспотел и несся, будто кто меня гнал. Мать пришла с работы и говорит: давай, мол, не унывай.
- Вечно у тебя сердце не на месте, только и знаешь себя грызть. Не можешь, что ли, отложить все на потом, поживи еще малость, тогда и волнуйся.
Альберт работал допоздна, не мог с нами пойти, а мы сели на тридцать девятый и поехали в центр - решили посидеть часок-другой в винном погребке Йейта. Я заказал ей портвейн, а сам потягивал коньяк.
- Ты и впрямь выходишь за Альберта? Она рассмеялась.
- Или приревновал?
- Да нет. Этого добра мне и так хватает. Просто жизнь какая-то длинная.
- Вот и хорошо, не то бы мы все уже померли.
На вид она была хоть куда - совсем еще молодая, перманент был ей к лицу, и накрашенные губы притягивали взгляд, отводили его от морщинок в уголках глаз - такая в два счета кому хочешь голову вскружит.
- Я еще и родить могу, коли придет охота,- усмехнулась она. Мне даже чудно сделалось - вроде не верится, а только если это
и впрямь случится, у меня появится братец, и он будет дядей какому-то моему новому мальцу-безотцовшине.
- Жизнь - она не только длинная,- сказал я,- она еще и путаная, настоящая каша.
- Покуда не простыла да вкуса не потеряла, оно еще ничего. Не знаю, Майкл, чудной ты какой-то. Бывает, вспомню твоего отца и думаю: ты весь в него.
Я залпом выпил рюмку коньяку, но вкуса не почувствовал, что тебе газированная водичка.
- Ты говорила, у меня отца не было,- сказал я и тут же пожалел о своих дурацких словах, услыхав материн ответ:
- Может, думаешь, ты Иисус Христос? Твой отец тоже вот так опрокидывал рюмку за рюмкой. И всегда заказывал мне портвейн. Чудно. Этот нахал говорил, он, мол, думал - все женщины-работницы любят портвейн, и ведь не ошибся, я-то и впрямь его люблю. И ходили мы с ним в это самое заведение - в ту пору и выпивка-то не всегда была,- а уходили, когда здесь уж запирали, а на улицах затемнение, темно хоть глаз выколи, вот и шли домой, спотыкались на каждом шагу. Отец твой был помоложе меня, хоть я совсем еще девчонка была. Молодой сержант, а только разговаривал как офицер. Ох и славно мы с ним провели времечко, а потом его отослали в другое место. Он даже прислал мне письмо, а может, два, а как я написала ему - я, мол, беременна, он сразу бросил писать. Я до того обозлилась, взяла да сожгла и письма его, и фото.
Тут я почувствовал, что весь побелел, не терпелось узнать побольше.
- Что ж ты мне раньше ничего не говорила?
- Да как-то ни к чему было. Ты ж знаешь, у меня голова дырявая, ничего не помню. Красивым его не назовешь, но живой такой был, а по разговору слышно было - из образованных он, а все равно такими забористыми словечками сыпал, страх, всякий разговор ими пересыпал. А все ж лицом ты не больно на него похож. Моего в тебе уж очень много. А у него голова чудная такая была, и лысеть он начинал, хоть было-то ему всего двадцать. Но до чего ж удивительный
был пареяь - язык срамной, а сам другой раз до того бывал нежный да ласковый, прямо даже робел, за это я, может, его больше всего и любила. Месяц он, можно сказать, жил у меня, говорил - здорово интересно жить в таком вот доме, а все одно без бутылки виски не приходил, только тогда ему и было у нас уютно, когда выпьет. Славно нам с ним бывало. В войну я зарабатывала хорошо, вот и удалось исхитриться - заполучить собственный домик, тем более Джилберт помог. Он был такой -что хочешь насочиняет. Ухватит служебный автобус - и прямо ко мне. А то, бывало, ждет меня у фабрики - вот, помню, я радовалась! Только ему не говорила. Не то совсем меня засмеял бы: вот, мол, нежности, а мне обидно, я на такие слова злилась, даже посудой в него кидала, покуда не уймется. Любил он это дело - сидит и нарочно меня дразнит. Я его звала Бес Блэскин, и тут уж он хохотал прямо до упаду. И чего только мы не вытворяли, сыну всего и не расскажешь. А ты чего это весь побелел? Я думала, тебе от выпивки плохо не бывает.
Тяжелый ком, который я давно уже чувствовал внутри, вдруг колыхнулся, вроде рвался наружу.
- Пойду глотну свежего воздуха,- сказал я и встал.- Здесь духотища смертная.
- Ты и вправду страх как побледнел,-сказала мать и взяла меня за руку.- Что это с тобой?
Внутри у меня опять заворочался тяжелый ком.
- Давай выйдем отсюда.
- Ну, пошли, черт возьми.
Мы спустились по лестнице, и на свежем воздухе я малость очухался. Мать совсем растерялась, видно, думала, я вот-вот свихнусь, а что делать - непонятно, чашек да стаканов под рукой нет и кинуть в меня нечем.
Мы вышли на Слэб-сквер, освещенная ратуша казалась такой высоченной, я подумал: хоть бы она рухнула и похоронила нас обоих. Этот гнусный кобель с похабной своей башкой ничуть не изменился, так весь век и бегает по бабам. Бросает одну за другой, и к нему мигом кидаются новые, и всех ждет та же невеселая участь. Прожженный негодяй, обманщик, каких свет не видал,- и если матери не изменяет память, этот пенкосниматель, книжный червяк, который не сеет, не жнет, только весело живет, он-то и есть мой ничего не подозревающий родитель,
Мы зашли в «Восемь колоколов» и даже сумели отыскать местечко.
- Слушай,- сказал я,- я знаю этого типа, и похоже, он каким был, таким и остался.
- О господи,- сказала она.- Лучше ничего больше не говори, чтоб мне не расстраиваться. Так давно все это было, а ты опять все переворошил, я и расчувствовалась. Будто я по сю пору в него влюблена, в жеребца поганого. Сколько лет ведь была влюблена. А потом вроде забыла его. Да разве такое забудешь! Для женщины потерять любимого - почти все равно что ребенка потерять.
Я чуть не плакал, и не только от того, как меня перетряхнуло, и не от коньяка: я еще представил себе, до чего трудная была у матери жизнь, а все из-за Джилберта Блэскина и из-за меня - безотцовщины: я ведь не давал ей забыть подлеца. Чтоб как-то отвлечь мать, я немного рассказал ей о нем, хотел показать, какой он стал, а если удастся, и немного развенчать его в ее глазах.
- Поглядела бы на него сейчас. И смотреть-то не на что.
- Ну и я не лучше,- сказала она.
- Нет, лучше.
Она вспылила:
- Заткнись! Когда назад поедешь?
- Завтра,- сказал я.- Уехал бы нынче, да последний поезд уже ушел. Когда выходишь за Альберта?
- Через полтора месяца,- с готовностью отозвалась мать, будто я сменил пластинку.
- А может, тебе приличней выйти за Джилберта Блэскяна? -
спросил я, и она так громко расхохоталась, все в пивной стали на нее оглядываться: что, мол, такое у нас происходит, уж не над ними ли мы потешаемся?
Я поехал дневным поездом, он протискивался на юг через узкий туннель Трентского моста. В полях под проливным дождем как вкопанные стояли коровы, будто они и сами из дождя и хотят впитать его и еще раздуться. Я не успел позавтракать и теперь пошел в вагон-ресторан подзаправиться, но пока до него добрался, меня так растрясло, даже вроде есть расхотелось.
Я знал, в Лондоне меня ждут тревоги и заботы, но едва принялся за еду, и мне уже показалось - не так страшен черт, и скоро уныние как рукой сняло. Поезд мчал чуть не галопом, суп выплескивался из тарелки, даже трудно было за едой читать газету. Я поглядел, может, какой мой однофамилец помер, или женился, или его следует помянуть добрым словом, потому как он отдал свою славную жизнь в какой-нибудь войне - а их много идет сейчас в мире,- или, может, кто обручился, или у кого родился законный младенец. Да только ничего такого в газете не обнаружил и стал просматривать объявления - какие продаются дома и машины; но все оказалось не по моему требовательному вкусу.
Потом я проглядел колонку происшествий - может, за последние сутки таможенники зацапали Рона Коттапилли или Пола Пиндарри, этих двух столпов «компании» Джека Линингрейда. Ничего такого не оказалось, а только если я буду гнуть свою линию, этого недолго ждать. На вокзале Сент-Панкрас я сразу пошел в автомат и позвонил Моггерхэнгеру.
- Кто говорит? - спросил он.
Я сказал: я обмозговал его предложение. Он засмеялся.
- Так и знал, что ты не скоро объявишься, Майкл. Люблю, когда человек ничего не делает наспех, но ты больно надолго исчез, я уж думал, может, с тобой что случилось, может, зацапали тебя. Не похоже, конечно, да ведь при твоей работенке всяко бывает. Я слыхал, по вашей фирме порядком стукнуло, верно? Это я про Рэймеджа. Судьба, она, бывает, так оглушит - зашатаешься, Я насилу удержался, чуть было не послал Линингрейду телеграмму: соболезную, мол. Да, так что ж ты решил?