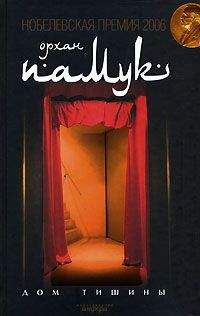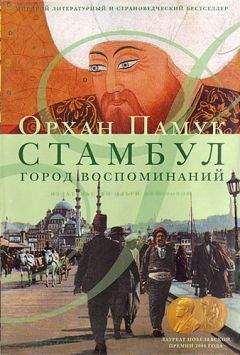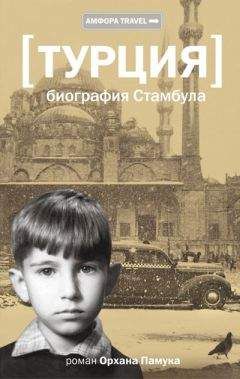Пусть они приходят и спросят об этом, я жду, чтобы на этот раз спокойно и просто ответить им именно так. Но внизу опять все тихо. Я встала с кровати, смотрю на часы на столе: уже десять утра! Где же они? Я подошла к окну и выглянула в сад. Машина, брошенная Метином, стоит на прежнем месте. А потом я заметила, что цикад, неделями поющих рядом с кухонной дверью, тоже не слышно. Я боюсь тишины! Интересно, почему приходила аптекарша? Хотя не думаю, что ее приход с чем-то связан. Зато карлик, наверное, сейчас им рассказывает обо всем, собрал их вокруг себя и нашептывает о старом грехе. Я немедленно вышла из комнаты, подошла к лестнице, ударила палкой в пол и позвала:
— Реджеп, Реджеп, немедленно иди наверх!
Почему-то теперь я знала, что он не придет, что я напрасно стучу палкой и напрасно напрягаю свой старый голос, но я позвала еще раз. И когда звала, странный ужас охватил меня: мне показалось, что они все уехали куда-то, не сказав мне, уехали навсегда и больше не вернутся, а я осталась в доме одна! Страшно. Чтобы отвлечься, я снова закричала, и на этот раз мне стало еще страшней. Казалось, в мире не осталось никого: ни людей, ни птиц, ни наглых собак, ни даже цикад, напоминающих мне своим пением о времени и о жаре, не осталось. Будто время остановилось, и осталась одна я, и вот мой голос, в страхе и без всякой надежды, опять зовет кого-то, зовет напрасно, впустую, а палка безнадежно стучит, стучит по иолу, а меня никто не слышит. Остались только брошенные кресла, стулья, столы с толстым слоем пыли, закрытые двери — печальные предметы, скрипящие сами по себе. Вот смерть, которую ты открыл, Селяхаттин! О господи. Мне почему-то показалось, что мысли мои застынут так же, как все предметы, и станут бесцветными и безвкусными, как лед, а я вечно буду стоять здесь, в тишине. Внезапно я решила спуститься вниз, чтобы разыскать время и движение, и с трудом спустилась на четыре ступеньки, но когда у меня закружилась голова, я опять испугалась: впереди еще пятнадцать ступенек, ты не сможешь спуститься, Фатьма, упадешь! В панике, я очень медленно поднялась назад, и пока поднималась наверх, спиной к пугающей тишине, мне захотелось подумать о чем-нибудь веселом и забыть о ней. Сейчас они придут и поцелуют тебе руку, не бойся, Фатьма.
Когда я дошла до двери своей комнаты, страх уже прошел, но радости я не ощутила. На меня угрожающе смотрел с портрета на стене Селяхаттин, но мне было не страшно, я как будто утратила способность бояться, а еще — чувствовать тепло, вкус, прикосновения. Я сделала еще семь маленьких шагов, дошла до кровати, села на нее, а затем откинулась на латунную спинку и, рассматривая ковер на полу, заметила, как пусты и одинаковы мои мысли, и мне стало грустно. Так и лежим мы в пустоте — я и мои легковесные мысли. Потом я опустилась ниже на кровати, головой на подушку, и подумала: может, уже настало время, может, они уже идут целовать мне руку, входят в мою дверь? До свидания, Бабушка, до свидания! Ты готова? На лестнице все еще не слышно ни звука, ни шороха, и так как я боялась проявлять любопытство, то подумала, что я еще не готова, надо подождать, нужно поделить время на дольки, как апельсин, как я всегда желаю тихими сиротливыми зимними ночами. И, натянув на себя одеяло, я продолжала ждать.
Я знаю, что, когда так ждешь, начнешь думать об одном и том же. О чем? Я хочу, чтобы мое сознание показало мне свое нутро, как вывернутая перчатка. Значит, вот ты какая, Фатьма, скажу я себе. Оказывается, мое нутро — изнанка, зеркальное отражение того, что снаружи! Я хочу отвлечься, потеряться, забыться. Если снаружи я то, на что они приходят посмотреть, то, что они привозят вниз на ужин, то, чему они целуют руку, то какая я тогда внутри? Я — это мое бьющееся сердце, мои мысли, как бумажный кораблик на воде, а что еще? Как странно! Иногда, между сном и явью, в темноте, я путаю, где же я, и чувствую сладостнее любопытство: будто я «внутренняя» стала мною «внешней», а «внешняя» — «внутренней», а кто я на самом деле — понять в темноте не могу: Я беззвучно, как кошка, протягиваю руку, зажигаю свет, дотрагиваюсь до холодного железа кровати и пытаюсь найти себя, но холодное железо подхватывает меня и уносит в холодную зимнюю ночь, Где я? Думаю, что многие иногда не знают, где они. Если человек, уже семьдесят лет живущий в одном доме, путает и это (да, я все-таки так считаю и уверена, что жизнь, которую мы, как нам кажется, проводим впустую, на самом деле гораздо более интересная и непонятная вещь), то никому не дано знать, почему его жизнь именно такова. Ты часто чего-то ждешь, и пака жизнь идет своим чередом, а почему — никто не знает, ты, находясь в своей собственной жизни, думаешь о том, как она пойдет дальше и что с чем связано, И занятый этими странными мыслями, которые нельзя считать правильными либо неправильными, у которых и конца-то нет, ты вдруг замечаешь — а путешествие-то закончилось, Фатьма, давай, вылезай из повозки! Сначала я опушу одну ногу, потом другую и сойду с повозки. Сделаю пару шагов, а потом обернусь и посмотрю. Вот на этой повозке мы катались, покачиваясь из стороны в сторону? На этой. Значит, когда настанет конец, я буду думать именно так: вот на этой повозке я каталась, но так ничего и не поняла и хочу начать все сначала. Но уже нельзя! Мне скажут: мы теперь здесь, по другую сторону, ты больше не можешь сесть в эту повозку и не сможешь начать все сначала. И, глядя на удаляющуюся повозку и лошадей, которых стегает возница, мне захочется плакать: значит, я не могу начать все сначала, значит, больше нельзя! Но потом я возмущенно подумаю: человек должен иметь возможность начать все сначала, точно так же, как я считаю, что маленькая девочка должна имеет возможность остаться на всю жизнь маленькой безгрешной девочкой, если ей этого хочется. Так и человек должен иметь возможность начать все сначала, пробормочу я, и тогда я вспомню книги, которые мне читали Нигян, Тюркян и Шюкран, и дорогу, остававшуюся позади нашей повозки, когда мы с мамой ехали домой, и почувствую странную светлую печаль. В то утро мама отвезла меня в дом Шюкрю-па-ши и прежде, чем передать меня им, сказала то, что всегда говорила по дороге: смотри, Фатьма, не начинай плакать опять, когда я вечером приеду тебя забрать, ладно? Или мы здесь в последний раз. Но я быстро забыла о том, что говорила мне мама. Играя целый день с Нигян, Тюркян и Шюкран. восхищаясь тем, насколько они умнее и красивее меня, я забыла, о чем говорила мама. Они так красиво играли на пианино и так здорово изображали хромого кучера и служанку, а потом своего отца — я очень удивилась и рассмеяться осмелилась только после того, как засмеялись они, — а после обеда читали стихи. Они ездили во Францию, знали французский язык, но достали, как всегда, переводную книгу на турецком и читали ее вслух по очереди, передавая из рук в руки, и так приятно было их слушать, что я совсем забыла о том, что говорила мама. А когда мама внезапно появилась передо мной, я заплакала, поняв, что пора возвращаться домой, и тогда мама очень строго посмотрела на меня. Я все еще не могла вспомнить то, что мама говорила мне утром по дороге, да и к тому же плакала не только потому, что пора было домой, а еще потому, что мама строго смотрела на меня. И тогда мама Шюкран, Нигян и Тюркян пожалела меня и сказала: девочки, принесите ей конфет. Моя мама сказала: мне так неловко, сударыня, а их мама ответила: ничего страшного, и в это время Нигян принесла мне конфеты в серебряной сахарнице. Все на меня смотрели, ожидая, что я возьму конфету и замолчу, но я не взяла конфету и сказала: нет, я не хочу конфету, я хочу другое, и меня спросили: чего ты хочешь, а мама сказала: хватит уже Фатьма, и в это время я, собравшись с духом, сказала: ту книгу, но так как из-за слез не могла сказать — какую, Шюкран, попросив разрешения у мамы, принесла их книги, и моя мама сказала: сударыня, эти книги — не для нее, да и читать она не любит, а я в это время краем глаза рассматривала книги. Монте-Кристо, Ксавье де Монтепен, и Поль де Кок, но я хотела «Приключения Робинзона», которую они читали мне после обеда. Можно взять ее, спросила я, и моей маме было опять очень неловко, а их мама ответила: конечно, девочка, можешь взять, но смотри, не потеряй, это книга Шюкрю-паши; я наконец замолчала и с книгой в руке послушно пошла в повозку.
На обратном пути домой я боялась посмотреть на маму, сидевшую напротив меня. Я не отрывала покрасневших от слез глаз от дороги, остававшейся за повозкой, и от окон особняка Шюкрю-паши, все еще видневшегося вдалеке, и вдруг мама закричала на меня, сказала, что я — непослушная девчонка. И, не излив весь гнев до конца, через некоторое время добавила: на следующей неделе я не поеду в особняк Шюкрю-паши. И тогда, посмотрев на маму, я подумала, что она говорит это, чтобы я заплакала, потому что в других ситуациях такие слова вызывали у меня слезы. Но я не заплакала. Я чувствовала странную радость и покой, спокойствие, причину которого я поняла гораздо позже, размышляя здесь, в кровати. Покой этот я ощутила из-за книги, которую держала в руках, я смотрела на обложку этой книги и думала: кое-что из нее мне по очереди читали в тот день Нигян, Тюркян и Шюкран; я не понимала всего, книга казалась мне сложной, но все-таки кое-что я смогла понять: какой-то англичанин, когда затонуло его судно, прожил много лет на необитаемом острове, совершенно один, нет, не один, потому что через много лет у него появился слуга; но все-таки все это очень странно. Странно было думать о том человеке со слугой, жившем в полном одиночестве, много лет не видя никого. Пока повозка покачивалась туда-сюда — я знаю, покой мне придавали не мысли об этом человеке, а кое-что другое. Во-первых, мама не хмурила брови, глядя на меня. К тому же я смотрела из окна повозки не вперед, а назад, как любила, но не на особняк Шюкрю-паши, уже скрывшийся из виду, а на путь позади нас, на прошлое, о котором было так приятно вспоминать. Но самое хорошее — это то, что я чувствовала: благодаря книге в моих руках я, может быть, смогу еще раз пережить это яркое прошлое у себя дома. Может быть, мой нетерпеливый и упрямый взгляд будет впустую бродить по непонятным страницам книги, но, глядя на них, мне предстояло вспомнить дом Шюкрю-паши, куда я не поеду на следующей неделе, и то, как нам было весело. Гораздо позднее, здесь, лежа в своей кровати, я поняла: когда путешествие на повозке, что зовется жизнью, закончится, ты не сможешь еще раз отправиться в него, но если у тебя в руках есть книга, какой бы сложной и запутанной она ни была, ты всегда можешь вернуться в начало, когда она закончится, чтобы понять жизнь и то, что ты понять не смог. И тогда ты еще раз прочитаешь уже оконченную книгу, правда, Фатьма?