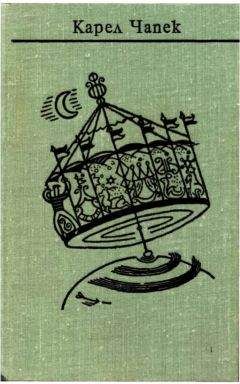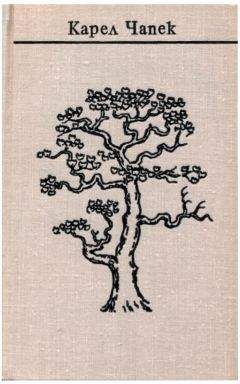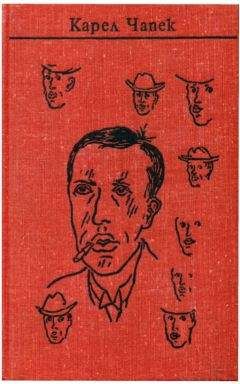— И вообще не следовало… — вздохнул le bon prince, нахмурившись.
— Ты знаешь, mon oncle, я всегда поступаю как хочу. — Княжна безапелляционно положила конец вмешательству родственника.
Прокоп убрал со стула коробочки с мгновенно действующими диазосоединениями.
— Присядьте пожалуйста, — вежливо пригласил он князя.
Нельзя сказать, чтобы Рон был в восторге от всего происходящего.
— Мы не мешаем вам… не мешаем тебе работать? — бесцельно осведомился он.
— Нисколько, — ответил Прокоп, разминая в пальцах инфузорную землю.
— Что ты делаешь?
— Взрывчатые вещества. Попрошу вон ту бутылку, — обратился он к княжне.
Та подала бутылку, демонстративно промолвив:
— На, возьми.
Рон вздрогнул, как от удара; но внимание его уже захватили быстрые, хотя и предельно точные, осторожные движения, с какими Прокоп капал чистой жидкостью на комочек глины. Откашлявшись, дядюшка спросил:
— От чего оно может взорваться?
— От сотрясения, — не переставая отсчитывать капли, ответил Прокоп.
Рон повернулся к княжне.
— Если ты боишься, oncle, можешь не ждать меня, — сухо проговорила она.
Покорный судьбе, он уселся, постучал тросточкой по жестянке из-под калифорнийских абрикосов.
— А тут что?
— Это ручная граната, — пояснил Прокоп. — Гексанитрофенилметилнитрамин и гайки. Взвесь-ка на ладони.
Рон смешался.
— А не было бы… уместнее… вести себя более осторожно? — спросил он, вертя в пальцах спичечный коробок, взятый с лабораторного стола.
— Безусловно, — согласился Прокоп, отбирая у него коробок. — Это — хлораргонат. С ним шутки плохи.
Рон нахмурился.
— Все это… производит на меня довольно неприятное впечатление запугивания, — резко заметил он.
Прокоп бросил коробок на стол.
— Вот как? У меня было такое же впечатление, когда мне грозили крепостью.
— Могу лишь сказать, — продолжал Рон, проглотив возражение Прокопа, — что все ваше поведение… не производит на меня ни малейшего впечатления.
— Зато на меня — огромное, — заявила княжна.
— Боишься, он что-нибудь выкинет? — повернулся к ней le bon prince.
— Я надеюсь на это, — убежденно возразила она. — Думаешь, он не сумеет?
— В этом я не сомневаюсь, — буркнул Рон. — Ну, пойдем?
— Нет. Я хочу ему помогать.
Тем временем Прокоп принялся гнуть пальцами металлическую ложку.
— Зачем это? — с любопытством спросила княжна.
— Гвозди кончились, — проворчал он. — Нечем начинять бомбы. — И он осмотрелся, отыскивая еще что-нибудь металлическое.
Княжна встала, зарделась, торопливо сдернула перчатку и стянула с пальца золотое кольцо.
— Возьми, — тихо произнесла она и, залившись румянцем, потупила глаза.
Прокоп принял ее вклад; это получилось почти торжественно… как помолвка. Он еще колебался, подбрасывая кольцо на ладони; она подняла на него вопрошающий горячий взор. Тогда он кивнул с серьезным видом и положил кольцо на дно жестянки.
Старый поэт озабоченно и грустно моргал своими птичьими глазами.
— Теперь мы можем идти, — прошептала княжна.
* * *
К вечеру приехал упомянутый выше наследник рухнувшего трона. У главных ворот — почетный караул, рапорт, слуги, выстроенные шпалерами, и прочие церемонии; парк и замок празднично иллюминованы. Прокоп сидел на холмике перед лабораторией, мрачным взглядом смотрел на замок. Никто не проходил здесь; темно и тихо, только замок сиял ослепительными снопами лучей.
Прокоп глубоко вздохнул и поднялся.
— В замок? — спросил Хольц и переложил револьвер из кармана брюк в карман своего бессменного дождевика.
Они идут по парку, где уже погашены огни; раза два-три какие-то темные фигуры отступили перед ними в кусты, а сзади, шагах в пятидесяти, все время кто-то шуршит опавшими листьями; в остальном — безлюдье, сырое безмолвие ночи. Лишь все княжеское крыло замка пылает большими золотыми окнами.
Осень, уже осень. Падают ли еще в Тынице серебряные капельки из крана колонки? Ветра нет — и все же доносится зябкий шелест: откуда, с земли или с деревьев? Алую полоску прочертила на небе упавшая звезда.
Несколько человек во фраках — о, как они великолепны и счастливы! — выходят на площадку замковой лестницы, болтают, курят, смеются… и возвращаются в дом. Прокоп застыл на скамейке, только вертит в растрескавшихся пальцах жестяную банку. Порой встряхивает ее, как дитя — погремушку. В банке — обломки ложки, кольцо и безымянное вещество.
Застенчиво приблизился Хольц.
— Сегодня она не сможет прийти, — деликатно говорит он.
— Я знаю.
В окнах гостевого крыла вспыхнул свет. А вот тот ряд окон — «княжеские покои». Теперь светится весь замок, воздушный, ажурный, как греза. Все там есть: богатство неслыханное, красота, честолюбие, и слава, и титулы — побрякушки на груди, наслаждения, умение жить, тонкость чувств, и остроумие, и самоуверенность; словно там другие люди, не такие, как мы…
Как упрямый ребенок, гремит Прокоп своей погремушкой. Постепенно окна гаснут; еще светится то, что в комнате Рона, и другое — красное, где спальня княжны. Дядюшка открывает окно, вдыхает ночную прохладу; потом принимается шагать от двери к окну, от двери к окну, и опять, и опять… За занавешенным окном княжны не дрогнет ни одна тень.
Вот и oncle Рон погасил свет; теперь горит лишь единственное красноватое окно. Найдет ли дорогу человеческая мысль, пробьет ли, просверлит ли мощью своею путь через эту сотню или сколько там метров немого пространства, коснется ли бессонного мозга другого человека? Какие слова послать тебе, татарская княжна? Спи — уже осень; и если есть какой-нибудь бог — пусть погладит он твой разгоряченный лоб…
Погасло красное окно.
Утром Прокоп решил не ходить в парк, справедливо полагая, что был бы там лишним. Он устроился в полупустынном уголке, где пролегла прямая дорога от замка к лабораториям, пробитая через старый заросший вал. Вскарабкался на вал; отсюда, кое-как укрывшись, он мог видеть угол замка и небольшую часть парка. Место ему понравилось; он зарыл там несколько своих ручных гранат и принялся наблюдать то за парком, то за спешащей куда-то жужелицей, за воробьем на качающихся ветках. Один раз к нему даже слетел реполов, и Прокоп, затаив дыхание, не спускал глаз с его красной грудки; реполов тенькнул, дернул хвостиком и фр-р-р! — улетел.
Внизу, по парку, идет княжна в сопровождении высокого молодого человека; на почтительном расстоянии от них — свита. Княжна смотрит в сторону и взмахивает рукой, словно хлещет прутиком по песку. Больше ничего не видно.
Гораздо позднее показался дядюшка Рон с толстым кузеном. И снова — ни души. Стоит ли в таком случае торчать здесь?
Почти полдень. Вдруг из-за угла замка появляется княжна и идет прямо к валу.
— Ты здесь? — вполголоса зовет она. — Спустись и иди налево.
Он скатился с вала, продрался через кусты налево. Там, около стены, оказалась какая-то свалка: ржавые обручи, дырявые кастрюли, старые цилиндры, гниющие, безобразные обломки; бог весть откуда берутся в княжеском замке подобные вещи. И перед этой отвратительной кучей стоит княжна — свежая, прекрасная — и по-детски грызет ногти.
— Сюда я приходила злиться, когда была маленькая, — сказала она. — Никто этого места не знает. Нравится тебе тут?
Прокоп видел — она огорчится, если он не похвалит ее убежища.
— Нравится, — поспешно ответил он.
Княжна обрадовалась, обняла его.
— Ты — милый! Я надевала на голову какую-нибудь кастрюлю — понимаешь, это была корона — и играла одна в суверенную княгиню. «Что изволят приказать всемилостивейшая княгиня?» — «Запряги шестерку лошадей, я поеду в Загур». Знаешь, Загур — это был мой выдуманный замок. Загур, Загур! Милый, скажи, есть на свете что-нибудь подобное? Давай уедем в Загур! Найди его для меня, ты столько знаешь…
Никогда она не была так свежа и оживленна, как сегодня; он даже приревновал ее к чему-то, в нем закопошилось черное подозрение; он схватил ее, хотел сжать крепко-крепко.
— Не надо, — попросила она, — будь умницей. Ты — Просперо, принц Загурский; просто ты переоделся волшебником, чтобы похитить меня или испытать — не знаю. Но за мною приехал принц Ризопод из царства Аликури-Филикури-Тинтили-Рододендрон, такой противный, мерзкий человек, у него вместо носа церковная свечка и холодные руки — у-у-у! И он уже должен получить меня в жены, и вдруг входишь ты и говоришь: «Я волшебник Просперо, наследный принц Загурский». И mon oncle Метастазио падает тебе в объятия, и тут начинают звонить колокола, и трубить трубы, и поднимается пальба…
Прокоп слишком хорошо понял, что за милой болтовней княжны скрывается нечто очень, очень серьезное; он остерегался перебить ее. А она обнимала его, терлась благоуханным личиком и ртом о его жесткую щеку…