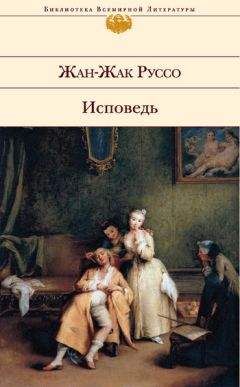— Это сильно повредит продаже Эгов, — во всеуслышание заметил Гобертен, — Про себя скажу, что ни за что не купил бы этого поместья... Очень уж зловредное здесь население; даже во времена мадмуазель Лагер мне приходилось с ними воевать, а одному богу известно, как она им мирволила!
Май уже подходил к концу, но ничто не говорило о намерении генерала продать Эги, он все еще колебался. Однажды вечером, часов около десяти, генерал возвращался из лесу домой по одной из шести аллей, шедших от площадки охотничьего домика; генерал отпустил сторожа, так как замок был уже недалеко. На повороте аллеи из-за куста вышел человек с ружьем.
— Генерал, — сказал он, — вот уже третий раз я беру вас на мушку и третий раз дарю вам жизнь.
— А почему ты хочешь меня убить, Бонебо? — спросил генерал, не выказывая ни малейшего волнения.
— Да что ж, если не я, так другой кто убьет. Только я, видите ли, чувствую слабость к людям, служившим императору, не подымается у меня рука подстрелить вас, как куропатку... Лучше не спрашивайте, все равно ничего не скажу. Но у вас есть враги посильнее и похитрее, чем вы, и они с вами справятся. Если я вас убью, то получу тысячу экю и женюсь на Мари Тонсар. Дайте мне несколько несчастных арпанов земли и какую ни на есть хибарку, и я буду говорить то же, что говорил до сих пор: не представилось, мол, удобного случая. Вы еще успеете продать поместье и уехать, но торопитесь. Хоть я и негодяй, а все-таки совесть у меня есть; другой, пожалуй, вас не пожалеет...
— Ну, а если я тебе дам то, что ты просишь, скажешь, кто тебе пообещал тысячу экю? — спросил генерал.
— Мне это неизвестно; а человека, который меня на это дело подговаривает, я слишком люблю и не назову... Да, если бы вы даже и знали, что это Мари Тонсар, это все равно ни к чему бы не привело. Мари Тонсар будет молчать, как могила, а я отопрусь от своих слов.
— Зайди ко мне завтра, — сказал генерал.
— Слушаюсь, — сказал Бонебо. — А если решат, что я недостаточно ловок, я вас предупрежу.
Неделю спустя после этого оригинального разговора весь округ, весь департамент и Париж были залеплены огромными объявлениями о продаже Эгов по участкам через контору суланжского нотариуса г-на Корбино. Все участки на общую сумму в два миллиона сто пятьдесят тысяч франков остались за Ригу. На следующий день Ригу велел изменить имена владельцев: г-н Гобертен получил лес, а Ригу и чета Судри — виноградники и прочие угодья. Замок и парк были перепроданы черной банде[71], за исключением охотничьего домика и принадлежащих к нему служб: г-н Гобертен подарил их своей чувствительной и поэтичной подруге.
Много лет спустя после этих событий, зимой 1837 года, один из самых крупных политических писателей того времени, Эмиль Блонде, дошел до последней степени нищеты, которую ему прежде удавалось скрывать, ведя блестящую светскую жизнь. Он уж подумывал решиться на отчаянный шаг, ибо убедился, что, несмотря на свой ум, знания и практический опыт, он только машина, работающая на других, увидел, что все места заняты, что он уже на пороге зрелого возраста, а не имеет ни общественного положения, ни денег, что глупые и бестолковые мещане сменили придворных и бездарных людей Реставрации и что государство снова становится таким, каким оно было до 1830 года. Однажды вечером, когда он был близок к не раз осмеянному им самоубийству и мысленно окидывал последним взглядом свою жалкую жизнь, в сущности трудовую, а не праздную, хотя его и попрекали кутежами, перед его глазами встал прекрасный и благородный образ женщины, словно статуя, уцелевшая во всей своей неприкосновенности и чистоте среди печальных развалин, — в эту минуту швейцар подал ему письмо с черной сургучной печатью. Г-жа де Монкорне извещала о смерти мужа, снова поступившего на службу и командовавшего дивизией. Графиня унаследовала все его состояние: детей у нее не было. Полное достоинства письмо ставило в известность Блонде, что сорокалетняя женщина, любимая им во дни ее молодости, дружески протягивает ему руку и предлагает значительное состояние. Спустя некоторое время состоялась свадьба графини де Монкорне и Эмиля Блонде, получившего назначение на должность префекта. Отправляясь в свою префектуру, он избрал дорогу, когда-то ведшую в Эги, и приказал остановиться на том самом месте, где прежде стояли две сторожки, ибо хотел посетить бланжийскую общину: там все вызывало столько нежных воспоминаний в сердцах обоих путешественников. Край был неузнаваем. Вместо таинственного леса и парка с его аллеями тянулись распаханные поля; окрестности напоминали лист картона с наклеенными образчиками материй. Крестьянин — победитель и завоеватель — завладел имением. Оно было раздроблено на тысячи участков, а население между Кушем и Бланжи увеличилось втрое. Некогда столь оберегаемый пленительный парк был распахан, и охотничий домик, именовавшийся ныне виллой «El Buen Retiro»[72] и принадлежавший Изоре Гобертен, обнажился. Это было единственное уцелевшее строение, высившееся среди полей, или, вернее, среди полосок распаханной земли, сменивших прежний пейзаж. Здание походило на замок, до того жалки были разбросанные кругом домишки, типичные крестьянские постройки.
— Вот он, прогресс! — воскликнул Эмиль. — Вот страничка из «Общественного договора» Жан-Жака! И меня впрягли в социальную машину, которая производит подобную работу!.. Боже мой, что станется в недалеком будущем с королями! Да что говорить о королях, что станется через полвека при таком положении вещей с народами?
— Ты меня любишь, ты тут, рядом; настоящее мне кажется прекрасным, и меня мало заботит столь отдаленное будущее, — ответила жена.
— Возле тебя — да здравствует настоящее, — весело воскликнул влюбленный Блонде, — и к черту будущее!
Он велел кучеру трогать, и когда лошади пустились вскачь, новобрачные снова отдались обаянию медового месяца.
1845
Первая часть романа «Крестьяне» под названием: «Кто с землей, тот с войной», появилась в газете «Ла Пресс» («La Presse») и печаталась с 8 по 23 декабря 1844 года. Дальнейшее печатанье было прекращено по распоряжению издателя. Вместо «Крестьян» в газете начал печататься роман А. Дюма «Королева Марго».
Лишь через пять лет после смерти писателя, в 1855 году, в журнале «Ревю де Пари» («Revue de Paris») была опубликована вторая часть романа. Полностью роман вышел (в издательстве Потте) в 1855 году. В том же году «Крестьяне» были включены в XVIII (второй дополнительный) том «Человеческой комедии».
Последние шесть глав своей схематичностью и сентиментальностью значительно отличаются от предыдущих: они были дописаны после смерти писателя его вдовой Э. Ганской-Бальзак, которая воспользовалась конспектом Бальзака, набросанным им в 1837 году.
П.-С.-Б. Гаво — Сильвен Гаво — парижский адвокат, друг Бальзака, его советчик в денежных делах.
Брейгель Ян Старший (1568—1625) — фламандский художник, прозванный «бархатным» за мягкость колорита его картин.
Сен-Клу — дворец и парк близ Парижа, резиденция Наполеона I.
То есть вóды.
Тунское озеро — живописное озеро в Швейцарии.
Аркадия — область Древней Греции; в литературе Аркадия — место действия идиллий, изображающих счастливую, мирную сельскую жизнь.
Гризайль — способ декоративной живописи, использующей две краски — светлую и темную. Гризайль создает впечатление рельефности.
Как правило, я избегаю примечаний, и это первое, которое я себе позволил: оправданием мне послужит его исторический интерес; цель его — доказать, что описывать сражения следует совсем не так, как это делается в сухих объяснениях писателей-специалистов, которые вот уже три тысячи лет говорят нам только о левом и правом фланге и о более или менее прорванном центре, не упоминая ни единым словом о солдате, о его геройстве и страданиях. Добросовестность, с которой я работаю над «Сценами военной жизни», побуждает меня посещать все поля сражений, орошенные кровью французов и чужеземцев, — понятно, что мне захотелось побывать и на равнине Ваграма. Подъехав к Дунаю, против острова Лобау, я обратил внимание, что берег, поросший здесь мягкой травою, имеет волнистую поверхность, напоминающую прорезанные широкими бороздами поля люцерны. Я поинтересовался, откуда взялись эти гряды, отнеся их за счет какого-нибудь особого способа обработки земли. «Здесь, — сказал наш проводник-крестьянин, — покоятся кирасиры императорской гвардии: это их могилы!» Я содрогнулся от его слов; переведший их князь Фридрих Шварценберг пояснил нам, что этот крестьянин сопровождал повозки, нагруженные кирасами. По одной из тех странных случайностей, которые часто наблюдаются на войне, наш проводник доставил Наполеону утренний завтрак в день битвы при Ваграме. При всей своей бедности он до сих пор хранит двойной наполеондор, уплаченный императором за молоко и яйца. Гросс-аспернский священник провел нас на знаменитое кладбище, где дрались по колено в крови французы и австрийцы, причем с обеих сторон были проявлены достойные славы мужество и упорство. Тут же, на кладбище, наше внимание привлекла небольшая мраморная плита с выгравированным на ней именем владельца Гросс-Асперна, убитого на третий день сражения; священник пояснил, что это единственная награда, которой удостоилась семья покойного, и с глубокой грустью прибавил: «То было время великих бедствий и великих посулов, а теперь настало время забвения...» Слова эти показались мне прекрасными по своей простоте; но, поразмыслив, я нашел оправдание кажущейся неблагодарности австрийского королевского дома. Ни народы, ни государи не настолько богаты, чтобы вознаграждать за все самоотверженные поступки, к которым дают повод великие сражения. Пусть тот, кто служит какому-либо делу с задней мыслью получить за это награду, продает свою кровь, вступив в ряды кондотьеров!.. Но тот, кто сражается за родину со шпагой или с пером в руке, должен думать только о том, чтобы «потрудиться ей на благо», как говаривали наши отцы, и всякую награду, даже славу, принимать как счастливую случайность.