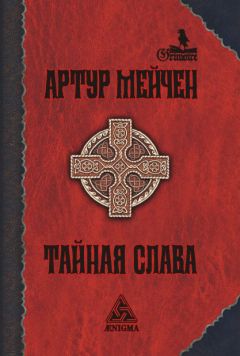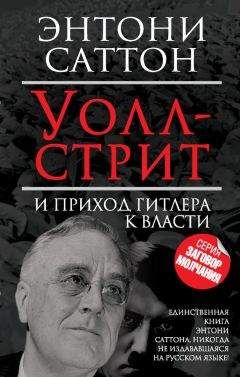Сделав вид, что уронил трубку. Дайсон начал шарить руками в темном углу. Нащупав некий предмет, он осторожно подтянул его к себе и, опуская потихоньку в карман, скосил глаза на свою находку. То была старомодная записная книжка в потертом сафьяновом переплете? цвета пивной пены.
Дайсон залпом осушил кружку и покинул бар, радуясь счастливой находке и строя предположения относительно ее возможного содержания. Он боялся обнаружить в записной книжке чистые странички или изнурительно-бессмысленные колонки записей о ставках на скачках, обращающие в фарс многообещающий вид старой сафьяновой обложки. Дайсон не без труда выбрался из мрачного убогого квартала и, оказавшись наконец на Грей-Инн-роуд, со всей возможной скоростью пересек Гилфорд-стрит и поспешил домой, мечтая о зажженной свече и уединении.
Добравшись до своей комнаты, Дайсон немедленно уселся за бюро, положил перед собой свою находку и глубоко задумался. Ему не хватало духу раскрыть книжку — он боялся, что его постигнет горькое разочарование. Наконец он наугад заложил палец между страничками — и с радостью увидел убористые строки рукописи. Так уж получилось, что первые два слова, бросившиеся ему в глаза, гласили: "Золотой Тиберий".
Дайсон немедля открыл первую страничку и принялся с живейшим интересом читать. То была
История молодого человека в очках
Посреди замызганной темной комнаты, расположенной, не сомневаюсь, в одной из самых грязных трущоб Клеркенуэла, я начинаю писать историю своей жизни, жизни, которая, ввиду того что ей ежедневно угрожают, неумолимо подходит к концу. С каждым днем — нет, с каждым часом! — враги все туже стягивают вокруг меня свои сети, и вот теперь я обречен на заточение в нищенской каморке, а выйти могу только навстречу верной гибели. Моя история, если ей случится попасть в хорошие руки, может предостеречь молодых люден от опасностей и ловушек, ожидающих всякого, кто сошел с пути истинного.
Зовут меня Джозеф Уолтерс. Выйдя из нежного возраста, я обнаружил, что обладаю небольшим, но приличным доходом, и решил посвятить свою жизнь наукам, свято веруя, что лишь образование сделает меня человеком. Я не имею в виду наше нынешнее "образование" — я вовсе не намеревался уподобляться тем, кто тратит всю свою жизнь на унизительное "редактирование" классики, марает на чистых полях достойнейших книг пустые поверхностные замечания и не покладая рук внушает публике непобедимое отвращение ко всему прекрасному. Монастырская церковь, превращенная в конюшню или пекарню, являет собой печальное зрелище, но еще более достоин сожаления шедевр, замаранный грубым пером комментатора и испещренный его гнусными пометками.
Я же выбрал славную стезю ученого в древнем, благородном понимании этого слова. Я жаждал обладать энциклопедическими знаниями, состариться среди книг, изо дня в день, из года в год трепетать над драгоценными страницами бессмертных творений. Я был недостаточно богат, чтобы собрать собственную коллекцию книг, и потому вынужденно прибегал к услугам библиотеки Британского музея.
О, эти мрачные, величавые и могучие своды! Эта мекка страждущих умов, мавзолей надежд, печальная обитель, где упокоиваются лучшие из желаний! Многие шли сюда с просветленным умом и легким сердцем, видя в величественной каменной лестнице ступени восхождения к славе, а в помпезном портике — врата знаний. Но, увы! Они не находили внутри ничего, кроме все той же присущей миру суеты сует. Когда окружающие музей улицы полнятся шумом жизни, внутри его царят тишина, вечные сумерки и тяжкий книжный дух. Там стынет и разжижается кровь, покрывается пылью мозг; там люди охотятся на теней, гоняются за призраками, сражаются с полчищами привидений, ведут войну, которой нет исхода. О, эта могила для живых! На ее галереях слышны не полнокровно звучащие голоса, а вечные вздохи и шелест погибших надежд; там людекие души устремляются к небу, как мотыльки к огню, но тут же, скорчившись и почернев, падают к подножью мрачного могучего свода!
Сейчас я горько сожалею о том дне, когда впервые ступил в эти мрачные залы и как одержимый набросился на книги. Прошло не так уж много времени, и, не успев стать истинным завсегдатаем библиотеки, я познакомился с невозмутимым и благожелательным пожилым джентльменом, который почти всегда занимал соседний со мною стол. В читальном зале познакомиться нетрудно — предложенная по случаю помощь, подсказка у каталога, да и обыкновенная, ни к чему не обязывающая вежливость сидящих рядом людей постоянно дают к тому повод.
Так я узнал человека, который представился мне доктором Липсьюсом. Постепенно я начал искать его общества и даже скучал, когда ему доводилось отсутствовать. Словом, между нами завязалось что-то вроде дружбы. Я всегда мог воспользоваться его удивительно обширными знаниями, и он часто поражал меня тем, что за считанные минуты мог целиком охарактеризовать библиографию по тому или иному вопросу. Конечно же, я поведал ему о своих честолюбивых намерениях.
— Ах! — сказал он. — Вот бы вам родиться немцем! Я и сам был таким в юные годы. Прекрасное решение — ступить на вечную стезю. Узнать все на свете — чем не девиз для странствующего в поисках истины рыцаря! Но подумайте о том, что вас ждет впереди. Жизнь, наполненная одним лишь нескончаемым трудом и беспрестанное, неутолимое желание. Ученый тоже обречен на смерть, но свою смерть он сопровождает словами: "Я знаю ничтожно мало!"
Подобными речами Липсьюс медленно, но верно развращал меня. Он отчаянно хвалил избранное мною поприще, но при этом прозрачно намекал на то, что оно столь же безнадежно, как и поиск философского камня.
— В конце концов, — любил повторять Липсьюс, — величайшая из всех наук — это наука наслаждения. Вот вам истинный ключ ко вселенскому знанию! Рабле был великим ученым-энциклопедистом и, как вам известно, написал самую замечательную в истории человечества книгу. И чему же он учит в этой книге? Радоваться жизни. Нет нужды напоминать вам слова, лицемерно утаенные в большинстве изданий, но, безусловно, являющиеся ключом ко всей раблезианской философии и всем загадкам его великого учения. Vivez joyeus![101] Вот вам и вся философия Рабле. Его книга преподает основы наслаждения как изящного искусства. Впрочем, оно и есть изящнейшее из искусств — искусство искусств, если угодно. Рабле владел всеми научными знаниями своей эпохи, но он был к тому же хозяином жизни. А ведь со времен Рабле мы далеко ушли. Вы, как человек просвещенный, не можете считать созданные испорченным обществом для своего же блага шаткие установления непреложными заветами Абсолютного.
Такие вот взгляды проповедовал мой новый знакомый. Мало-помалу он сделал-таки из меня человека, объявившего войну всем общественным нормам. Я ждал возможности разорвать цепи условностей и зажить свободной жизнью, прожигая ее по собственному разумению. Я смотрел на мир глазами язычника, я был юн и неопытен, а Липсьюс в совершенстве владел искусством поощрения природных склонностей, таящихся на дне души молодого человека.
Вглядываясь в величественные своды музея, я прозревал переливающийся всеми цветами радуги прельстительный неведомый мир, мое воображение рисовало мне тысячу соблазнов, а все запретное тянуло к себе, как магнит. Наконец решение было принято, И я бесстрашно попросил Липсьюса стать моим наставником.
В тот день Липсьюс велел мне покинуть музей в половине четвертого, медленно пройти по северной стороне Грейт-Рас-сел-стрит и ждать на углу улицы, пока ко мне не обратится некий человек. Затем я должен был во всем следовать указаниям моего провожатого.
Я послушно выполнил первую часть предписания и с бьющимся сердцем, едва дыша и нервно озираясь по сторонам, встал на указанном мне углу. Подождав какое-то время, я начал опасаться, что надо мной просто подшутили, но вдруг заметил джентльмена, который с нескрываемым удовольствием наблюдал за мной с противоположной стороны улицы Тоттен хем-Корт. Перейдя дорогу и приподняв шляпу, он вежливо попросил меня следовать за ним, что я и сделал, не говоря ни слова и лишь гадая про себя, куда мы идем и как дальше будут разворачиваться события.
Мы подошли к неброскому внушительному дому, что возвышался на улице, прилегающей к северной стороне Оке-форд-стрит, и мой провожатый позвонил в колокольчик. Слуга провел нас в просторную, скромно обставленную гостиную на первом этаже.
Мы молча уселись, и, оглянувшись вокруг, я, к удивлению своему, обнаружил, что непритязательная с виду мебель была очень дорогой — нас окружали большие дубовые буфеты, два чрезвычайно элегантных книжных шкафа, изящные кушетки и прочие признаки роскоши, а что до красовавшегося в углу резного ларя, так он, судя но всему, вообще был средне вековый.
Наконец вошел доктор Липсьюс. Он поздоровался с нами, и после нескольких ответных реплик мой провожатый оставил нас с доктором наедине. Через некоторое время в гостиной появился какой-то престарелый господин и немедленно вступил в оживленнейшую беседу с Липсьюсом. Из их разговора я понял, что мой пожилой друг занимается торговлей древностями — оба джентльмена постоянно упоминали о некоей хеттской печати и перспективах дальнейших открытий, а немного погодя, когда к нам присоединились еще трое, в гостиной завязался спор о возможностях систематического изучения докельтских памятников в Англии. По сути дела, я попал на неофициальную встречу археологов.