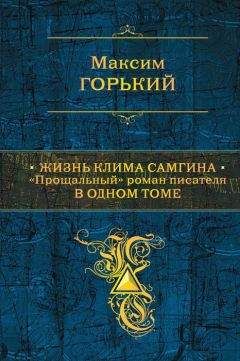Самгин смотрел на плотную, празднично одетую, массу обывателей, – она заполняла украшенную молодыми березками улицу так же плотно, густо, как в Москве, идя под красными флагами, за гробом Баумана, не видным под лентами и цветами. Так же, как тогда, сокрушительно шаркали десятки тысяч подошв по булыжнику мостовой. Сухой шорох ног стачивал камни, вздымая над обнаженными головами серенькое облако пыли, а в пыли тускловато блестело золото сотен хоругвей. Ветер встряхивал хоругви, шевелил волосы на головах людей, ветер гнал белые облака, на людей падали тени, как бы стирая пыль и пот с красных лысин. В небе басовито и непрерывно гудела медь колоколов, заглушая пение многочисленного хора певчих. Яростно, ослепительно сверкая, толпу возглавлял высоко поднятый над нею золотой квадрат иконы с двумя черными пятнами в нем, одно – побольше, другое – поменьше. Запрокинутая назад, гордо покачиваясь, икона стояла на длинных жердях, жерди лежали на плечах людей, крепко прилепленных один к другому, – Самгин видел, что они несут тяжелую ношу свою легко.
За иконой медленно двигались тяжеловесные, золотые и безногие фигуры попов, впереди их – седобородый, большой архиерей, на голове его – золотой пузырь, богато украшенный острыми лучиками самоцветных камней, в руке – длинный посох, тоже золотой. Казалось, что чем дальше уходит архиерей и десятки неуклюжих фигур в ризах, – тем более плотным становится этот живой поток золота, как бы увлекая за собою всю силу солнца, весь блеск его лучей. Течение толпы было мощно и все в общем своеобразно красиво, – Самгин чувствовал это.
Но он предпочел бы серый день, более сильный ветер, больше пыли, дождь, град – меньше яркости и гулкого звона меди, меньше – праздника. Не впервые видел он крестный ход и всегда относился к парадам духовенства так же равнодушно, как к парадам войск. А на этот раз он усиленно искал в бесконечно текущей толпе чего-нибудь смешного, глупого, пошлого. Вспомнил, что в романе
«Воскресение» Лев Толстой назвал ризу попа золотой рогожей, – за это пошленький литератор Ясинский сказал в своей рецензии, что Толстой – гимназист. Было досадно, что икону, заключенную в тяжелый ящик киота, люди несут так легко.
«Марина была бы не тяжелее, но красивей, величественнее...»
Утром, в газетном отчете о торжественной службе вчера в соборе, он прочитал слова протоиерея: «Радостью и ликованием проводим защитницу нашу», – вот это глупо: почему люди должны чувствовать радость, когда их покидает то, что – по их верованию – способно творить чудеса? Затем он вспомнил, как на похоронах Баумана толстая женщина спросила:
– «Кого хоронят?»
– «Революцию, тетка», – ответили ей.
Это несколько разогрело мысли Самгина, – он, уже с негодованием, подумал:
«Ради этого стада, ради сытости его Авраамы политики приносят в жертву Исааков, какие-то Самойловы фабрикуют революционеров из мальчишек...»
Тут он вспомнил:
«А может, мальчика-то не было?..»
Он уже не скрывал от себя, что негодование разогревает в себе искусственно и нужно это ему для того, чтобы то, что он увидит сегодня, не оказалось глупее того, что он уже видит.
«Мальчишество, – упрекнул он себя и усмехнулся, подумав: – Очевидно, она много значит для меня, если я так опасаюсь увидеть ее в глупом положении».
Толпа прошла, но на улице стало еще более шумно, – катились экипажи, цокали по булыжнику подковы лошадей, шаркали по панели и стучали палки темненьких старичков, старушек, бежали мальчишки. Но скоро исчезло и это, – тогда из-под ворот дома вылезла черная собака и, раскрыв красную пасть, длительно зевнув, легла в тень. И почти тотчас мимо окна бойко пробежала пестрая, сытая лошадь, запряженная в плетеную бричку, – на козлах сидел Захарий в сером измятом пыльнике.
«Значит – далеко ехать», – сообразил Самгин, поспешно оделся и вышел к воротам.
Захарий, молча кивнув ему головой и подождав, когда он уселся, быстро погнал лошадь, подпрыгивая на козлах, точно деревянный. Город был пустой, и шум раздавался в нем, точно в бочке. Ехать пришлось недолго; за городом, на огородах, Захарий повернул на узкую дорожку среди заборов и плетней, к двухэтажному деревянному дому; окна нижнего этажа были частью заложены кирпичом, частью забиты досками, в окнах верхнего не осталось ни одного целого стекла, над воротами дугой изгибалась ржавая вывеска, но еще хорошо сохранились слова: «Завод искусственных минеральных вод».
Самгин вздохнул и поправил очки. Въехали на широкий двор; он густо зарос бурьяном, из бурьяна торчали обугленные бревна, возвышалась полуразвалившаяся печь, всюду в сорной траве блестели осколки бутылочного стекла. Самгин вспомнил, как бабушка показала ему ее старый, полуразрушенный дом и вот такой же двор, засоренный битыми бутылками, – вспомнил и подумал:
«Возвращаюсь в детство».
Лошадь осторожно вошла в открытые двери большого сарая, – там, в сумраке, кто-то взял ее за повод, а Захарий, подбежав по прыгающим доскам пола к задней стенке сарая, открыл в ней дверь, тихо позвал:
– Пожалуйте!
Самгин, мигая, вышел в густой, задушенный кустарником сад; в густоте зарослей, под липами, вытянулся длинный одноэтажный дом, с тремя колоннами по фасаду, с мезонином в три окна, облепленный маленькими пристройками, – они подпирали его с боков, влезали на крышу. В этом доме кто-то жил, – на подоконниках мезонина стояли цветы. Зашли за угол, и оказалось, что дом стоит на пригорке и задний фасад его – в два этажа. Захарий открыл маленькую дверь и посоветовал:
– Осторожно.
В темноте под ногами заскрипели ступени лестницы, распахнулась еще дверь, и Самгина ослепил яркий луч солнца.
– Подождите минутку, я – сейчас! – тихо сказал Захарий и, притворив дверь, исчез.
Самгин снял шляпу, поправил очки, оглянулся: у окна, раскаленного солнцем, – широкий кожаный диван, пред ним, на полу, – старая, истоптанная шкура белого медведя, в углу – шкаф для платья с зеркалом во всю величину двери; у стены – два кожаных кресла и маленький, круглый стол, а на нем графин воды, стакан. В комнате душно, голые стены ее окрашены голубоватой краской, и все в ней как будто припудрено невидимой, но едкой пылью. Самгин сел в кресло, закурил, налил в стакан воды и не стал пить: вода была теплая, затхлая. Прислушался, – в доме было неестественно тихо, и в этой тишине, так же как во всем, что окружало его, он почувствовал нечто обидное. Бесшумно открылась дверь, вошел Захарий, – бросилось в глаза, что волос на голове у него вдвое больше, чем всегда было, и они – волнистее, точно он вымыл и подвил их.
– Пожалуйте, – шопотом пригласил он. – Только – папироску бросьте и там не курите, спичек не зажигайте! Кашлять и чихать тоже воздержитесь, прошу! А уж если терпенья не хватит – в платочек покашляйте.
Он взял Самгина за рукав, свел по лестнице на шесть ступенек вниз, осторожно втолкнул куда-то на мягкое и прошептал:
– Вот, садитесь, отсюда все будет видно. Только уж, пожалуйста, тихо! На стене тряпочка есть, найдете ее...
В темноте Самгин наткнулся на спинку какой-то мебели, нащупал шершавое сиденье, осторожно уселся. Здесь было прохладнее, чем наверху, но тоже стоял крепкий запах пыли.
«Посмотрим, как делают религию на заводе искусственных минеральных вод! Но – как же я увижу?» Подвинув ногу по мягкому на полу, он уперся ею в стену, а пошарив по стене рукою, нашел тряпочку, пошевелил ее, и пред глазами его обнаружилась продолговатая, шириною в палец, светлая полоска.
Придерживая очки, Самгин взглянул в щель и почувствовал, что он как бы падает в неограниченный сумрак, где взвешено плоское, правильно круглое пятно мутного света. Он не сразу понял, что свет отражается на поверхности воды, налитой в чан, – вода наполняла его в уровень с краями, свет лежал на ней широким кольцом; другое, более узкое, менее яркое кольцо лежало на полу, черном, как земля. В центре кольца на воде, – точно углубление в ней, – бесформенная тень, и тоже трудно было понять, откуда она?
«Какой-то фокус».
Напрягая зрение, он различил высоко под потолком лампу, заключенную в черный колпак, – ниже, под лампой, висело что-то неопределенное, похожее на птицу с развернутыми крыльями, и это ее тень лежала на воде.
«Не очень остроумно», – подумал Самгин, отдуваясь и закрыв глаза. Сидеть – неудобно, тишина – неприятна, и подумалось, что все эти наивные таинственности, может быть, устроены нарочно, только затем, чтоб поразить его.
Под полом, в том месте, где он сидел, что-то негромко щелкнуло, сумрак пошевелился, посветлел, и, раздвигая его, обнаруживая стены большой продолговатой комнаты, стали входить люди – босые, с зажженными свечами в руках, в белых, длинных до щиколоток рубахах, подпоясанных чем-то неразличимым. Входили они парами, мужчина и женщина, держась за руки, свечи держали только женщины; насчитав одиннадцать пар, Самгин перестал считать. В двух последних парах он узнал краснолицего свирепого дворника Марины и полуумного сторожа Васю, которого он видел в Отрадном. В длинной рубахе Вася казался огромным, и хотя мужчины в большинстве были рослые, – Вася на голову выше всех. Люди становились полукругом перед чаном, затылками к Самгину; но по тому, как торжественно вышагивал Вася, Самгин подумал, что он, вероятно, улыбается своей гордой, глупой улыбкой.