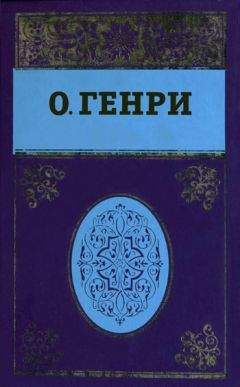— Ну, я играл на ней, когда подходит этот парень, которого я треснул. Он ужасно завидовал мне, тому, как я хорошо играю, и был вне себя из-за того, что комитет выбрал именно меня для игры на балу. И вот когда я играл, этот долбанутый парень подходит прямо ко мне и говорит: «От твоей музыки уже созрели все арбузы на высокой горе». Ну, я продолжаю играть. Тогда он говорит: «Представьте себе, что у тебя в руках большой, спелый арбуз с красной мякотью и черными семечками». Я продолжаю играть. А он говорит: «Ты тащишь его в автобус, разбиваешь острым камнем и погружаешь свою клешню в самую его красную мякоть, вытаскиваешь из него пригоршню сладкой массы и оглядываешься по сторонам, не подходит ли кто». Ну, я продолжаю играть. А он говорит: «Ты набиваешь себе арбузом полный рот, ты жуешь, жуешь, сок его выливается у тебя изо рта и течет по подбородку, скатывается на шею, на грудь, а сладкая масса растекается в твоем горле».
От этой его картины у меня потекли обильные слюнки, причем столько, что заполнили вскоре всю мою французскую арфу, она отсырела, музыка прекратилась, а члены комитета, назначившие меня на бал, только недоуменно переглядывались. Тогда я схватил в негодовании стул, трахнул этого негодяя парня по башке и накинулся на него. Вы, мистер судья, сами знаете, какие вкусные арбузы растут в этих местах…
— Ну-ка убирайтесь отсюда оба, чтобы глаза мои вас больше не видели, — вынес свой приговор судья. — Кто там следующий?
Сломанная тростинка{44}
Перевод Л. Каневского
Популярный священник сидел в своем кабинете перед жаровней с горящими углями, и довольная улыбка блуждала у него по лицу, когда он вспоминал свою удачную утреннюю проповедь. Да, он нанес ощутимые удары по греховному, он простыми, но берущими за сердце словами рассказывал слушавшей его, затаив дыхание, пастве о зле, коварстве, дебоширстве, пьянстве, развращенности, случаи которых наблюдались среди его прихожан.
Уподобляясь примеру первейшего слуги Господа с чистейшими помыслами, он в своей речи опускался до самых низменных глубин порока и разврата, а в голове у него возникали ужасные, жгучие, непотребные картины, которые он рисовал перед изумленными взорами прихожан щедрой кистью в поразительно живых красках. Он сам слыхал, как слетали богохульства с губ, некогда столь же чистых, как у сестер церкви, он сам стоял в самом центре безграничных пороков, где вино текло рекой, раздававшиеся там скабрезные песни, проклятия, громкий смех, шумное пьяное веселье, звон монет, заработанных на человеческой крови, казалось, долетали до обиталища самого Дьявола.
Да, в самом деле, он поразил свою паству! Он не скупился на самые огненные слова, чтобы выжечь ими все то, что не имело права на существование. И вот теперь он сидел перед своими горящими угольками и думал об успехе трудов своих, эти раздумья вызывали у него довольную улыбку.
Вдруг щелкнула задвижка на двери его кабинета, и к нему вошел человек. Грязный, седой, в лохмотьях, изрядно потрепанный, с неясным взором и неуверенной походкой, к тому же от него сильно несло ромом. Может, он и был когда-то человеком. На его лбу пролегла длинная полоска клейкого пластыря, на переносице красовалась открытая кровавая рана, которая контрастировала с менее красным цветом остального лица. Вместе с ним в кабинет влетел дух нереспектабельности, несвятости и рома.
Проповедник встал, его чувствительные ноздри заметно подергивались от неприятного запаха, а все его грузное тело под просторным облачением дрожало от испытываемого к вошедшему отвращения.
— В чем дело, добрый человек? — спросил он.
* * *
Существо заговорило, и проповедник, все еще стоя, пытался следовать за лабиринтом его хрипловатой речи.
— Разве вы меня не знаете? Я живу в «Восторгах ада». А я вас знаю. Вы туда приходили, действительно приходили, хотели ознакомиться с его достопримечательностями. Вы попросили дать вам в проводники этого итальяшку, Тони, а он послал вас к гадкому Джейку. Так это я. Я поведу вас по всем притонам, ну и все такое прочее. Я знаю, что вы — проповедник, если судить по тому, что вы делаете. Но вы купите мне вина, как человек, настоящий человек с большим карманом, иначе кто вас будет принимать за человека?
— Простите, — сказал проповедник, — эта рана у вас на лбу, — кровь из нее каплет на мои гравюры, — позвольте мне…
— Не волнуйтесь, ваше преподобие, — сказало существо и, задрав полу своего изодранного сюртука, вытерло кровь с лица. — Я не испорчу ваши картинки. Несколько капелек сорвались на ковер, но ничего, сейчас я напущу сюда свежего воздуха. Когда-то я мог бы рассказать вам все о ваших картинках: вот эта — Она со львом, а это — Венера Милосская, а это — Дискобол. Вас не удивляет, ваше преподобие, что я верно называю картинки, нет? Когда-то и я сидел вот на таких стульях, больше всего мне нравилась испанская кожаная обивка, но ваша стенная панелька не из лучших — резной аллегорический орнамент уже не используется в современных панельках. Но, простите меня, ваше преподобие, я пришел к вам не для того, чтобы сказать об этом. После того как вы пристрастились к нашему злачному месту, я задумался о том, что вы мне говорили однажды вечером, когда мы с вами ходили на танцульки в Гиллиган. Там был один парень, который унижал вас как священника, даже хотел дать вам по уху, но, увидев, что у меня из кармана выпирает пушка, и посмотрев мне в глаза, он передумал. Ну, да это неважно. Я тогда слышал, как вы себе сказали: «Сломанной тростинки ему не соединить и горящий лен не погасить» или что-то в этом роде. Тогда я сказал себе: «Пойду-ка я в большую церковь, послушаю проповедь этого типа».
* * *
— Мои ребята, все эти хвастуны, у которых нет и гроша в кармане, смеются надо мной, называют «Благочестивым Джейком», но сегодня я пошел в большую церковь, где вы проповедуете, ваше преподобие. Я сказал себе, что ведь это я вас водил по злачным местам, я заступался за вас, когда эти пропойцы выставляли вас на посмешище, я не позволил этим парням вас обжулить, а когда я услыхал о ваших поучениях, о ваших проповедях, сам услыхал, какие жгучие слова вы отважно бросали этой банде, то испытал гордость, чувство, что я и сам причастен к вашему бизнесу, так как ходил повсюду вместе с вами. Я сказал себе: «Ты должен сам услыхать, как проповедует этот парень, и, может, в результате у сломанной тростинки появится шанс снова стать целой…» Извините меня, ваше преподобие, не бойтесь, я не упаду и не испорчу ваш ковер. Что-то голова кружится. Кровь все течет из моей раны на лбу, но я совсем не пьян.
— Может, вы присядете, не хотите ли на самом деле присесть, отдохнуть несколько минут?
— Благодарю вас, ваше преподобие, я не стану садиться. Кажется, я уже покончил со своим прошлым. Я пришел в церковь, вошел в нее. Я услыхал чудесную музыку, мне казалось, что это поют сами ангелы на хорах, и я почувствовал такой дивный запах — запах фиалок и свежего сена, которое мы косили на пахучих лугах, когда я был совсем еще маленьким. Сколько там было хороших людей в бархатных куртках и красивых платьях с разными безделушками. А вы, ваше преподобие, стояли в дальнем конце, на большой трибуне, такой спокойный, словно вы не здесь, а где-то далеко-далеко, точно такой, как тогда на балу в Гиллингене, когда эти ребята попытались вас высмеять, а я после пошел, чтобы послушать вашу проповедь.
* * *
Вдруг проповедник вспомнил лестный для него отрывок из сообщения о его утренней проповеди, опубликованного в утренней газете: «Его чудодейственное, магнетическое воздействие настолько велико, что не только способно тронуть сердце даже самого грубого, самого невежественного и неграмотного человека, но и вызвать ответный аккорд в сознании человека высококультурного, обладающего тонким вкусом».
— Ну а моя проповедь, — спросил священник, соединяя подушечки своих тонких пальцев и чувствуя, как заслуженная похвала убыстряет ток крови в жилах. — Не вызывала ли она у вас угрызений совести из-за той греховной жизни, которую вы прежде вели, не осветила ли светом Божественной жалости уголки вашего сердца, не принесла ли прощения вашей заблудшей душе, в общем, всего того, что Он обещает самым развращенным, порочным и злобным существам Своего творения?
— Ваша проповедь? — сказало существо, поднося дрожащую руку к ранам, обезображивающим его лицо. — Разве вы не видите эти порезы, эти синяки? Знаете, где я их заработал? Я ведь и не услышал вашей проповеди. Все эти увечья я заработал на острых камнях, куда коп с вашим привратником вышвырнули меня из церкви. В самом деле, разломанная тростинка никогда не станет целой, а горящий лен не погасить. У вас есть еще что-нибудь сказать?
Волосы Падеревского{45}
(Перевод Л. Каневского)