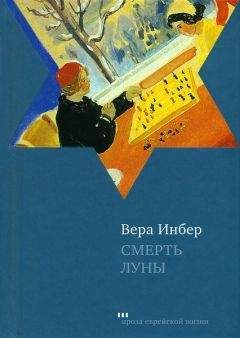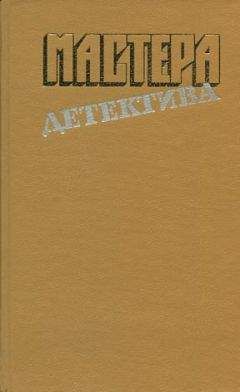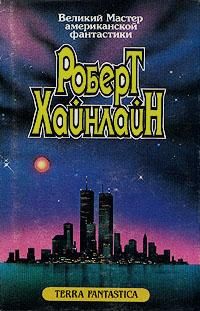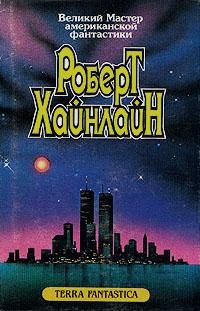— Если вам это интересно, я могу рассказать. Это таки странная история. Вы мне разрешите только принести сюда Альме.
Зоя Никитишна не раз спрашивала себя, почему она так долго слушала этого молодого семита с его ясно выраженными национальными особенностями. Очевидно, здесь было сразу несколько причин: первая — сильный испуг, который проходил медленно, как опьянение, вторая — желанье хоть чем-нибудь заполнить пустой вечер. Третья причина была неосознана, но явно существовала.
Копельман быстро вернулся из ванной комнаты, небрежно, как старый галстук, сунул в чемодан страдающую изжогой Альме и, придвинув стул к Зое, начал рассказывать.
Квартира была тиха. Копельмана не прерывал никто и ничто. Раз только Зоя вздрогнула, увидя мелькнувший из-под графина чей-то юркий хвост. Но Копельман молвил:
— Умоляю вас, не волнуйтесь. Это простая ящерица. Она не выступает, а просто живет у меня из милости.
После чего он продолжал свой рассказ. Рассказ был следующий.
3
— Начну коротко, что у моего отца было восемь человек детей! Мне было тогда десять лет, а после меня было еще четверо, и самой маленькой, Сарочке, шел второй год. Миша, вот этот, монтер, тогда уже учился в хедере. А я был совсем еще глупый и очень боялся собак: у нас в Томашполе были очень злые собаки… Отец наш был часовщик. Но, скажите сами, разве в таком Томашполе может набраться столько часов, чтобы накормить ими десять ртов, восемь маленьких и два больших?
Раз в неделю мой отец надевал сюртук — тот самый, в котором он венчался, — и уходил в имение Свербеево заводить часы. От Томашполя это было верст пять. Конечно, как все дети, мы были глупые дети, но для нас это был праздник. Когда отец приходил, он нам рассказывал, какие там комнаты, и где что стоит, и какой там замечательный воздух… Один раз отец говорит: «Ну, Зяма (Зяма это я), мне в имении дали починить кухонные часы, с маятником (настоящие дорогие часы они посылали в Киев), так вот, завтра вымой лицо и ноги и пойдешь со мной, как будто помочь мне нести, а на самом деле ты все там посмотришь, и тебе это будет приятно». — «А почему Зяма, — спрашивает мой брат Миша, вот этот, монтер, — почему не я, когда меня уже два раза учитель похвалил?» — «А почему не я? — спрашивает мой самый старший брат, Мирон. — Кто вам, папаша, вылечил палец, когда вы загнали себе секундную стрелку под ноготь?» (Надо вам сказать, что из Мирона таки вышел потом дивный врач, но его убили на войне.) Понятное дело, каждому хотелось пойти. Но отец поговорил с ними серьезно в другой комнате, и они замолчали. (Я, знаете, в детстве был странный ребенок: не то луны испугался, не то из люльки выпал. И конечно, родители меня больше всех баловали.)
Всю ночь я не спал. Утром умылся, как на Пасху, и мы пошли. Папаша нес часы, а я шел позади с маятником. Ну, не помню, как мы там шли, пришли, помню только сад.
— Сад, конечно, был прекрасен? — спросила Зоя. — В таких имениях всегда прекрасные сады.
— Это был райский сад, настоящий рай. В саду играли дети, все в белом. Потом — комнаты. Очень меня поразили ковры. Я не мог себе представить, что на пол можно положить такую богатую материю и ходить по ней с башмаками… Покуда папаша заводил часы в столовой, я стоял один в длинной пестрой комнате с диванами и смотрел по сторонам. Я старался стоять на одной ноге, чтобы меньше пачкать ковер. Мне нужно было все запомнить, чтобы все рассказать своим. В комнате никого не было. Вдруг кто-то сказал: «Ты дурак. Эй ты, дурак». Мне, знаете, стало обидно, что кто-то, кто меня совсем не знает, говорит мне, что я дурак. Я повернулся — никого. Мне стало страшно. «Ты, дурак, дай мне сахар, сахар. Где мой сахар?» Я повернулся и понял, что это говорит розовая птица, которую я принял сначала за кусок обоев. «Папаша, — крикнул я шепотом, — где вы? Идите сюда». Отец не слышал. Птица подошла ко мне по ковру, как человек, и сказала: «Здравствуйте, как поживаете?» Я ответил: «Здравствуйте», — поклонился и протянул ей руку, чтобы поздороваться. Она меня клюнула так, что пошла кровь.
Тут я услышал смех. В дверях стоял большой высокий господин с усами и смеялся так, что слезы текли. «Ох, — говорил он, — уморил жиденок, совершенно уморил. Вот уж поистине дурак. Дети, подите сюда».
Открылась другая дверь, и вбежало много детей. За ними шла собака, большая, как лошадь, и очень страшная. У меня задрожали ноги. (Я уже объяснил вам, что я очень боялся собак.) А она шла все ближе и ближе. Я так испугался, что и ей сказал: «Здравствуйте, как поживаете?» — и протянул руку. Она зарычала. Тут я упал. Когда я открыл глаза, стены дрожали от хохота: смеялись все. Сзади стоял отец, весь в поту, держа в руках будильник, и старался показать, что он улыбается. «Папаша, — сказал я, — идем домой. Мне тут нехорошо». — «Вот так так, — выговорил сквозь смех высокий господин. — А мы только что собрались с тобой как следует познакомиться. Мы тебе всех наших собак покажем. У нас их целая свора. Приведите сюда Ральфа», — сказал он кому-то. «Ваша светлость, — сказал вдруг отец, и я не узнал его голоса, — будьте такой добрый, отпустите мальчика. Он у меня слабый». — «Ничего, — ответил господин, — ничего ему не будет. Ральф, познакомься с ним». Наверное, я крикнул, хотя хорошо не помню.
«Пустите его! — закричал отец совсем громко. — Я не позволю! — Он бросил золотой будильник, и тот зазвенел. — Пустите меня к нему!» — «Сумасшедший жид… Разбил часы… Жид… Часы…» — стали кричать все вместе. И даже за воротами мы слышали этот крик. У меня горела рука, а у отца был вырван рукав у подвенечного сюртука.
— Что же было дальше? — запинаясь, спросила Зоя.
— Дальше мы уехали из Томашполя. Жить там стало для нас невозможно. Два раза приезжал урядник, у нас отобрали лавку, а Мишу, монтера, исключили из хедера за дерзкого отца. А я сделался совсем не в себе. Учиться как следует я не мог. Тут как раз подвернулся цирк. Между прочим, выяснилось, что я так испугался тогда в имении, что здесь не боялся никаких зверей, даже львов. Я занялся змеями и вот живу.
Копельман-младший замолчал и откашлялся.
— Конечно, прошло много лет, — снова начал он, — но я и теперь скажу, что у тех людей были каменные сердца. А самое главное, время было такое. Слава, слава Богу, что прошли такие времена, когда из живого человека можно было сделать себе игрушку. Какие люди были… А потом этот, будь он проклят, сам Свербеев, Григорий… Георгий, как его…
— Никита Егорович, — тихо сказала Зоя. — Это был мой отец. Я все это теперь вспомнила.
…Абдалах-Ага, с успехом закончивший гастроли, уехал из Москвы, увозя с собой чемодан с дырками, в котором Зоя Никитишна заподозрила чеснок.
В квартире все пошло по-прежнему. Зоя была такая же, как всегда.
Но если бы психологи обратили свое научное внимание на вышитые подушки, они нашли бы в них пищу для размышленья. Зоя — та самая, которая так избегала всего красного и современного, которая так лелеяла розовое прошлое, — вышила новую подушку. По красному фону извивалась превосходно вышитая змея, у которой, если присмотреться внимательно, были близорукие и добрые глаза Копельмана-младшего.
1926
Как известно из географии, Днепр становится судоходным только от города Орши. Но в самой Орше он узок и незначителен, и трудно предположить, что у этой реки такое разнообразное будущее. Глядя на гладкую водную ленту, то пеструю от звезд, то малиновую от заката, почти невозможно поверить, что под Александровском она обрывается бешеной бахромой порогов, а под Херсоном расстилается широкой скатертью, на которой лодки кажутся маленькими солонками.
При взгляде на человека тоже трудно сказать, на что он способен. Это о людях вообще, и в частности о Прицкере, приказчике универсального магазина в городе Орше, начиная от которого Днепр становится судоходным.
Магазин Хаима Егудовича универсален. Там гастрономическое отделение, где есть и шоколад «Яснополянская картошка», и семга, и язык, и пикули, причем все, без исключения, неуловимо попахивает керосином. Направо от входа — седла, уздечки и прочие лошадиные принадлежности. В другом углу — чашки, стаканы и даже ликерные рюмки на тонкой и длинной ноге, как у аиста. Но самая центральная стойка занята красным товаром. Там — упоенье и восторг не только оршанских женщин, но и баб из соседних деревень. Иная, в сапогах и тулупе, хоть она и пришла за чайником, упрется глазами в красный товар и стоит на дороге неотступно, пока Прицкер не скажет воспитанно:
— Извините, мадам, освободите движение. Или туда, или сюда, а то выходит, ни пинт и ни минт и положительно.
Хаим Егудович Корнер, хозяин магазина, в последнее время очень раздражителен. Он пошел к врачу, и тот сказал ему просто и ясно:
— У вас печень не в порядке. Что вы едите обычно?