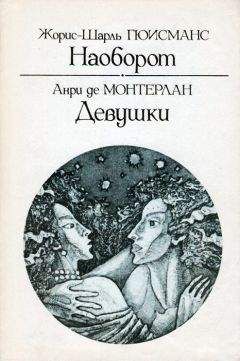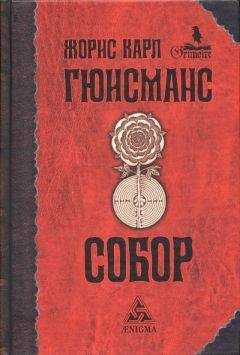IV
Ближе к вечеру перед домом в Фонтенэ остановился экипаж. Дез Эссэнт никого не принимал; в эти необитаемые места не заглядывал даже почтальон, чтобы передать какую-нибудь газету, журнал или письмо; вот почему слуги колебались, спрашивая друг у друга, стоит ли открывать; при бешеном трезвоне колокольчика осмелились приоткрыть потайное окошко в двери и заметили господина: всю грудь его закрывал огромный золотой щит.
Доложили хозяину; он завтракал.
— Чудесно, впустите.
Дез Эссэнт вспомнил, что когда-то оставил адрес гранильщику, чтобы тот отдал заказ.
Господин поздоровался, положил на сосновый паркет столовой щит. Тот покачнулся, приподнимаясь; из-под него вытянулась и юркнула под панцирь змеиная головка черепахи.
Незадолго до отъезда из Парижа дез Эссэнту взбрела в голову фантазия. Разглядывая как-то раз отблески восточного ковра, исследуя скользящие по аладиново-желтым и фиолетово-сливовым шерстяным нитям серебристые переливы, он подумал: а неплохо бы положить сюда что-нибудь подвижное и темное — обострить живость ковровой расцветки.
Во власти замысла слонялся по улицам, пока не забрел в Пале-Руайяль; перед витриной Шеве хлопнул себя по лбу: в бассейне сидела огромная черепаха. Купил. Потом, сидя перед нею на ковре, долго смотрел, сощурившись.
Цвет "голова негра" (сиена жженая) панциря грязнил отблески ковра, ничуть не оживляя; серебринки едва искрились теперь, подчиняясь холодным тонам исцарапанного цинка по краям жесткого тусклого щита.
Он грыз ногти, ища возможность уладить мезальянс, помешать решительному разладу оттенков; в конце концов пришел к выводу: первоначальное желание разжечь огонь ковра покачиванием темного, положенного сверху предмета было неверным, ведь ковер выглядел еще слишком ярким, слишком резвым, слишком новым. Цвета недостаточно притупились и ослабели; речь шла о том, чтобы поставить идею с ног на голову: смягчить тона, пригасить их контрастом чего-то сверкающего, что подавляло бы всё вокруг и отбрасывало золотые лучи на бледное золото. В таком ракурсе проблема разрешалась легче. И посему он решил позолотить кирасу черепахи.
Принесенная от умельца, взявшего ее на пенсион, она стала солнцем; от ее сверкания поблекли краски ковра. Она излучалась, как вестготский щит с чешуей, которую, наподобие черепицы, выточил художник-варвар.
Сначала дез Эссэнт был очарован эффектом; затем решил, что гигантская безделушка — лишь набросок; полную законченность придаст только инкрустация драгоценными камнями.
В японской коллекции выбрал рисунок — стайки цветов, вылетающих фейерверком из тонкого стебля; принес ювелиру, наметил бордюр, замыкавший букет овальной рамой, и сказал ошеломленному мастеру, что листья и лепестки каждого цветка должны быть из драгоценных камней и вставлены прямо в панцирь черепахи.
Его затруднял выбор камней; бриллиант стал удивительно банальным с тех пор, как все торгаши напяливают его на мизинец; изумруды и восточные рубины скомпрометированы меньше, отбрасывают златозарное пламя, но чересчур похожи на зеленые и красные глаза некоторых омнибусов (вдоль висков утыканы фонарями таких же цветов); что касается дымчатых или ярких топазов, то эти дешевые камешки любимы мелкой буржуазией, обожающей запирать ларчики в зеркальных шкафах. Аметист, хотя церковь и сохранила за ним репутацию святости, придав одновременно умилительность и торжественность, тоже подпорчен красными ушами и трубчатыми пальцами жен мясников: за умеренную цену те желают украсить себя настоящими и вескими драгоценностями; среди этих камней лишь сапфир уберег огонь от промышленной и денежной глупости. Искорки, потрескивая на чистой холодной воде, в какой-то мере охраняли его сдержанное горделивое благородство от грязи. К несчастью, при свечах потрескивание пламени прекращается; вода сворачивается клубочком, кажется спящей, чтобы пробудиться только утром.{12}
Решительно ни один камень не удовлетворял дез Эссэнта; к тому же они были очень цивилизованы, очень известны. Он просеивал между пальцев самые удивительные и необычные минералы; кончилось тем, что отобрал серию настоящих и фальшивых: смесь должна была образовывать притягательнейшую, ошеломляющую гармонию.
И вот как он составил букет: для листьев — ярко выраженная зелень: спаржа хризобериллов, порей перидотов, оливки оливинов; они отделялись от альмандиновых и уваритовых стеблей красновато-синего оттенка, бросая отблески столь же суховатые, как у крошек винного камня в глубине бочек.
Для цветов, отброшенных от стебля, удаленных от подножия фейерверка, использовал пепельно-голубой; но принципиально отказался от восточной бирюзы: она идет на броши и перстни и вместе с банальным жемчугом и омерзительным кораллом доставляет радость толпе; он выбирал только западную бирюзу, камни, являющиеся, собственно, окаменевшей слоновой костью, пропитанной медянистыми субстанциями; бледная зелень ее засорена, мутна, серниста, словно выжелчена.
После чего мог, наконец, вставлять лепестки цветов, распустившихся в середине букета, возле самого стебля, используя прозрачные минералы со стеклообразным и болезненным свечением, с лихорадочно едкими отблесками.
Он компоновал их исключительно из цейлонских "кошачьих глаз", симофанов и синих халцедонов.
Мерцание этих трех камней было поистине загадочным, извращенным; искры с болью вырывались из потревоженной ледяной воды.
"Кошачий глаз": серовато-зеленоватый, испещренный концентрическими венами; они словно шевелились, перемещались в зависимости от расположения света.
Симофан: лазурная дрожь, пробегающая по молочному оттенку, который плавает в глубине.
Синий халцедон: зажигает голубоватые фосфорные огни на шоколадном, приглушенно-коричневом фоне.
Гранильщик отмечал, куда и какие камни должны быть вставлены. "А бордюр панциря?" — поинтересовался он.
Сначала дез Эссэнт подумал об опалах и гидрофанах; заманчивые цветовым колебанием, сомнением пламени, они слишком уж непокорны, слишком изменчивы: опал обладает ревматической чувствительностью, огонь его лучей, в зависимости от влажности, переходит от тепла к холоду; а гидрофан пылает только в воде, соглашаясь зажигать свой серый уголь, лишь когда его смочат.
В конце концов остановился на камнях с чередующимися отражениями: на красном акажу гиацинта из Компостеллы; на зеленоватом аквамарине; на винном уксусе рубина-шпинель; на бледно-аспидном зюдерманийском рубине. Их слабые переливы достаточно освещали сумрак чешуи и не затмевали цветения камней — только обрамляли их тонкой гирляндой.
Прикорнув в углу столовой, дез Эссэнт наблюдал за черепахой, рдеющей в полумраке.
Он испытывал абсолютное счастье. Глаза опьянялись сиянием венчиков, пламенеющих на золотом фоне; изменив привычке, он почувствовал аппетит и макал гренки в чай: безупречную смесь Си-а-Фаюна, Мо-Ю-тана и Ханского сорта желтого чая, доставленного контрабандным караваном из Китая в Россию.
Он пил этот жидкий аромат из китайских фарфоровых чашечек, прозванных за свою прозрачность и легкость "яичной скорлупой", и, подобно тому, как дез Эссэнт признавал только эти милые чашечки, он пользовался только истинными вермейевыми приборами с чуть поблекшей позолотой, когда под усталым слоем золота проглядывает капелька серебра, придавая ему совершенно изношенный, умирающий оттенок старинной мягкости.
Допив чай, вернулся в кабинет и приказал принести черепаху: та упрямо не желала двигаться.
Падал снег. При свете ламп за голубоватыми стеклами росли ледяные стебли; изморозь, похожая на растаявший сахар, поблескивала в бутылочных донышках с золотыми крапинками.
Глубокая тишь обволакивала домишко, оцепеневший в сумерках.
Дез Эссэнт грезил; жаровня, нагруженная поленьями, наполняла комнату горячими испарениями; он приоткрыл окно.
Серебряным горностаем на черном поле поднималось черное небо, источенное белым.
Ледяной ветер набежал, ускорил безумный лет снежинок, нарушил порядок цветов.
Геральдическая обивка неба изменилась: теперь настоящий горностай — белый — был омушен черными точками ночи, просеянными сквозь хлопья.
Он закрыл окно; ошеломило внезапное, без перехода, превращение жары в мороз; съежившись у огня, подумал, что не помешал бы глоточек спиртного.
В одну из стенок столовой был вделан шкаф, где на крошечных подставках из сандалового дерева располагалась серия прижатых друг к другу бочонков с серебряными кранами в низу брюшка.
Это собрание бочонков с ликерами он называл органом для рта.
Одна трубка, соединяя все краники, могла воздействовать на них одновременно: достаточно нажать на кнопку, спрятанную в панели, чтобы краны, повернувшись в одну и ту же секунду, наполнили крошечные бокалы под ними.