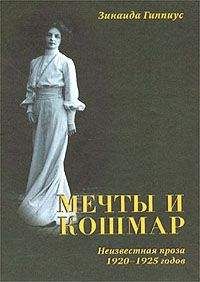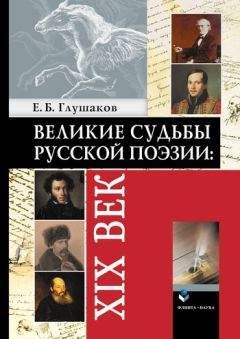Ваня, уразумев это (помогала Танюша) — растерялся. Вот так так! Ну, хорошо. Ну, положим, он пойдет. А вечная-то разлука?
Оказывается, если он не пойдет, вечная разлука совсем неизбежна. Во-первых — Мари его будет презирать, а во-вторых — ведь она все равно уедет в Париж (тут уж и Таня помогла выяснению дела, махала головой и рукой, повторяя «Париж, Париж…»).
Небо еще не вовсе погасло, еще зеленела его хрупкая высота, но под липами, в аллее, было так черно, что даже казалось душно. Мари и Танюша сидели рядком на скамейке. Ваня, длинный и нескладный, переминался с ноги на ногу. Помолчав, произнес:
— Так. Много благодарны. Ну, значит, повешусь.
— Ах, не надо! — сказала жалостливая Танюша. — Слышишь, Мари, вот дурак, правда — дурак? Ваня, ты не дури, и ведь врешь все, ты лучше поучись у нее по-французски, она тебя хочет учить, уроки давать, она мне объясняла. Тогда, говорит…
Старческий, но пронзительный голос Степаниды прервал ее:
— Таня-а! Ванюшка-а! Танька!
— Бежать надо, зовут, — зашептала Таня, схватываясь со скамейки. Я вперед, а вы за мной, а то будет нам всем…
Ускользнула неслышно. Мари тоже встала. Ваня увидел, при свете неба, что она улыбается. Что-то говорит негромко, не разобрать — что, однако, не сердится. Верно, об уроках… Почему-то эти уроки, хотя они ничего не решали и не спасали, необыкновенно Ваню подбодрили. В голове у него просветлело. И через минуту, из хаоса обрывочных мыслей, вдруг явилась одна — гениальная. Мари хочет, чтоб он служил… А если ему пойти — в моряки? Эскадру пошлют во Францию… Обязательно пошлют! А во Франции — Мари. Вот оно к чему все! В восторге он схватил Мари за плечи, он только боялся, что не сумеет рассказать ей, объяснить этот блестящий план. Но недаром он сидел неделю над самоучителем. Путал, заикался, но — она поняла! Marine, soldat, marin, France, escadre… Je… a vous… [16]
Поняла, и ободрительно качает головой:
— C'est tres beau… d'etre un marin… [17]
Ваня так стиснул ее в могучих объятиях, что она вскрикнула. Но вырвалась только после первого, долгого поцелуя… когда, впрочем, Ваня и сам ее больше не держал.
Остался под липами один, ошалелый от блаженства.
Степанида опять где-то вопила:
— Ванюшка-а! Ваня-а!
Он не двинулся, — кричи, сколько влезет, и подождешь, мол, не лопнешь! — Сидел на скамейке, в мечтах… Потом стал опоминаться. Понемногу.
— Да. Идти, значит, служить. В морском экипаже вообще легче. Потом эскадра… Конечно, только еще когда это все будет… А служить — не миновать…
Глядел на свою судьбу, гадал. И все пристальнее думал о службе:
— Хорошо. Ладно. Эскадра и прочее. Ну, а если да вдруг — война?
Даже вслух это — о войне — сказал, хотя никогда раньше о войне не думал.
— Если да вдруг, не дай Боже, — война?
Было это в 13-м году. Война застала Ваню Пугачова в Кронштадте, матросом. Воевать ему, однако, пришлось не на немецком, а на русском фронте, при второй революции…
Но что нам до судьбы Вани Пугачова? Он долго помнил уехавшую Мари; а эскадры никакой не вышло, Франции он не Увидал…
Разлука-то и вправду оказалась — навечная.
Молодой приват-доцент Райвич ехал верхом в соседнюю усадьбу Коврово — свататься.
Это было… все равно когда, вероятно, давно: еще существовали приват-доценты, верховые лошади, леса вдоль реки; теперь она обмелела, леса свели и сожгли Коврово.
Но нам теперешнее безразлично; мы рассказываем о далеком предвечернем дне, когда ехал приват-доцент Райвич лесом в Коврово свататься.
Маша ему во всех отношениях — пара. К нему очень мила, и никаких нет оснований думать, что она откажет. Дядя и тетка, у которых в имении нынче гостил Райвич, давно решили про себя, что он непременно на Маше женится, и только удивлялись, что так медлит с предложением. Быть может, удивлялись и Машины родители…
Райвич все это прекрасно знал. Он мог бы посвататься два месяца тому назад, когда темноглазая, веселая Маша только очень ему нравилась. Думал тогда часто, как она улыбнется, скажет ему «да», как они повенчаются, как устроятся… И казалось просто, приятно и мило.
Но потом — странно! — чем сильнее он в Машу влюблялся — тем дальше отступали эти приятные мысли. И свадьба, и жизнь вместе, все это отходило в туман; стал думать об одном: любит она или не любит? Стал волноваться, сомневаться, бояться: а вдруг не любит? Никаких причин для такого страха не было, а он все-таки боялся, и чем дальше, тем больше, потому что чем дальше — тем важнее ему было знать, одно: что она любит.
Знать важно, а спросить страшно. И молчал.
Он бы и сегодня не поехал. Но вышло как-то, что уж нельзя; выплыла опять необходимость сделать Маше «предложение». Его вызывают в Петербург. Лучше кончить до отъезда.
В каком-то двойном волнении он едет, знает, что «свататься» едет, а не думает об этом, о Маше и любви своей думает тихо и странно. Странным кажется ему день этот; а лес знакомый — точно он в первый раз увидал его.
Сегодня шестое августа, суббота. Предвечерне, и уж немного осенне. Дожди были, а сегодня сразу ясно, стеклянная, желтоватая ясность, и под закат — терпкий холодок стал в лесу.
По мягкой дороге, по самой опушке высокого тихого леса едет Райвич шагом. Негулко по земле мшистой ступают копыта. Так тихо в желтом полном свете, ни шороха, ни голоса птичьего, только порою — беззвучный звук удил, когда лошадь мотнет головой. Да вот еще: далекий, тонкий звон сельского колокола за невидной рекой. Субботний колокол… Почему он тоже как будто желтый, под цвет свету предвечернему и тишине?
Райвичу кажется, что он продолжает думать о своем, но он уже почти не думает; или какие-то неидущие мысли: вспомнил, что в детстве суббота ему всегда представлялась желтой, закатной и веселой, как этот вечер и этот дальний звон.
Да и праздник сегодняшний, Преображение, яблочный Спас, — ведь и он тоже, в детстве, был желтый и веселый.
Ну и пусть. Впрочем то, что теперь, не веселье: теперь наплывает радость или что-то вроде радости, непонятно-милое, бессловно поднимающее…
Откуда оно? От чего? Может быть, вот, от этого летучего запаха гари, тоже полуосеннего, полувечернего, дымка паутинного с прелью лесной?
Зазеленела дорога вниз, в лощинку, и с обеих сторон обступили ее отемневшие деревья. Холодок нежнее, сырее обнял, в лицо пахуче дохнул. И чем ниже, тем глуше, тем тише…
А звон желтый, тонкий, частый, все плывет, но и он — тишина.
«Верно, любит…» — подумал Райвич, но уже ни одного слова не было в этой мысли: ни «верно», ни «любит». Слово, даже подуманное, все-таки звук. А если душа недоуменно и крылато радостна — она тиха. Пожалуй, бессловные мысли и не мысли вовсе: так, само дыханье души.
Любовь, лучей желтых низ, папоротниковые лапы меж стволами, запах дымка и прели, плывучий звон воздушный, любовь… В одном кольце, в одном объятии — молчанья.
Кажется, лучше не будет никогда.
Или нет: будет. Ведь радость все нарастает. Самая волшебная из радостей — радость ожиданья.
Вздрогнула, было, остановилась, когда угас звон. Но тотчас около выпавшего звона опять сомкнулись волны радости, и опять стали расти и подыматься.
Волшебная и нежданная — она не удивляла. Не она ли только и была родная, а все, что не она, все, что было до нее, не сон ли чужой?
За лощинкой, за холмом кончится лес; будет поле, будет поворот в усадьбу… Но до поворота еще, — и есть ли поворот? есть ли усадьба? — Райвич увидел Машу.
Она тихо шла, не навстречу, а впереди, по самому краю лесной дороги, под самыми ветвями низкими. На голове у нее желтоватый шарф, — длинные концы прозрачные.
Не могла она тут не идти. Не мог он ее не встретить. К этой встрече и вела его ожидающая радость.
Остановился, легко соскочил с лошади, бросил поводья. Остановилась и Маша, глядела, темноглазая, на него без улыбки. Без улыбки — и без слова. Да и как иначе? Ведь это была не та Маша, веселая барышня, на которой хорошо жениться, приятно устроившись; но Маша здешняя, лесная, закатная, в закате розовеющая, как уже зарозовел воздух и стволы дерев.
Тихо и просто она стояла, и он подошел и, едва касаясь, обнял ее плечи.
Может быть, так слышалось, а, может быть, и снова запели, тонкие поплыли звоны вечерние по розовым небесам, углубляя тишину, замыкая в кольцо молчаний любовь, лес, душистую сырость, любовь.
Там в кольце, — мир крылатой радости. Там не удивляло ничто. Не один ли он. Этот мир, — родной, и не все ли, что около него, вокруг него, все, что было, что будет, — как сновиденье чужое?
Есть ли время в нем? Может быть, да, а вернее — нет. Еще розовость дерев не погасла, еще туман ложбинный не дотянулся до ветвей, — а Маша снова идет одна, легко, вперед, по лесной дороге, по которой обратно идет Райвич — и теперь уже наверное знает: