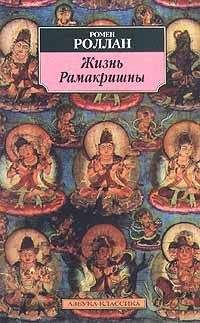— Нет! Не может быть!..
За столом она хлопала в ладоши, когда подавали его любимое блюдо; в гостиной курила папиросу за папиросой; при мужчинах прикидывалась, будто обожает своих подруг, — бросалась им на шею, ласково гладила им руки, шептала что-то на ухо, говорила наивности, а иногда и колкости, выделанно-нежным и слабеньким голоском; при случае она таким же голоском как ни в чем не бывало умела сказать что-нибудь очень непристойное, а еще большее удовольствие доставляло ей раззадорить собеседника, чтобы какую-нибудь непристойность сказал он, — и все это с самым простодушным выражением паиньки-девочки, поблескивая томными, с тяжелыми веками, плутоватыми глазами, лукаво косясь по сторонам; она подстерегала все сплетни, подхватывала любую двусмысленность, вечно старалась поймать на удочку чье-нибудь сердце.
Это глупое кривлянье, эти щенячьи ужимки, эта наигранная простоватость ни в малейшей степени не прельщали Кристофа. Ему было не до уловок развращенной девчонки, они даже не забавляли его. Ему нужно было зарабатывать себе на хлеб, спасать от смерти свою жизнь и свои замыслы. Все эти салонные попугайчики интересовали его лишь постольку, поскольку они доставляли ему средства к существованию. Они платили ему, а он за деньги обучал их добросовестно, наморщив лоб, ничем не отвлекаясь; он решил не поддаваться ни скуке этих уроков, ни поддразниванью своих учениц, когда попадались кокетливые, вроде Колетты Стивенс. И самой Колетте он уделял не больше внимания, чем ее маленькой двоюродной сестре, молчаливой, застенчивой девочке тринадцати лет, воспитывавшейся у Стивенсов, которой он также давал уроки.
Хитренькая Колетта прекрасно поняла, что с Кристофом все ее авансы пропадут даром; в то же время она ловко сумела в одно мгновение приспособиться к его вкусам. Для этого не понадобилось никаких усилий. Она действовала инстинктивно. Колетта была женщина. Как волна, Колетта не имела определенной формы. Чужая душа являлась для нее как бы сосудом, форму которого она, когда нужно, усваивала — иногда просто из любопытства, а иногда по необходимости. Чтобы жить, ей постоянно требовалось быть кем-то другим. Вся неповторимость ее личности заключалась в том, что она никогда не оставалась самой собой. Она слишком часто меняла сосуды.
Кристоф привлекал ее по многим причинам, главной из которых было то, что она сама не привлекала его. Он привлекал ее также тем, что не походил ни на кого из ее знакомых молодых людей, — никогда еще не попадался ей сосуд столь нескладный и столь замысловатой формы. И, наконец, обладая врожденной способностью определять с первого взгляда точную цену сосудов и людей, она ясно сознавала, что отсутствие внешнего лоска возмещается у Кристофа своего рода добротностью, какой лишены ее парижские куколки.
Она занималась музыкой, как занимается ею большинство праздных барышень. И слишком много и слишком мало. То есть она почти всегда была занята музыкой и почти ничего в ней не смыслила. Она бренчала на рояле по целым дням — от безделья, из любви к позе, ради чувственного развлечения. Иногда она играла, как другие катаются на велосипеде. Иногда играла хорошо, даже прекрасно, со вкусом, с душой (почти верилось, что у нее тоже есть душа: для этого ей было достаточно представить себя на месте человека, действительно обладавшего душой). До знакомства с Кристофом она способна была любить Массне, Грига, Томе. Но она способна была разлюбить их после знакомства с Кристофом. И теперь она играла Баха и Бетховена очень часто (по правде говоря, это не бог весть какая похвала); но поразительнее всего то, что она их любила. В сущности, она любила не Бетховена, не Томе, не Баха и не Грига, — она любила ноты, звуки, свои пальцы, бегавшие по клавишам, дрожанье струн, царапавшее и приятно щекотавшее ей нервы.
В салоне аристократического особняка, обтянутом немного блеклыми шпалерами, с водруженным на мольберте портретом дородной г-жи Стивенс, которую модный художник изобразил чахнущей, как цветок без воды, с глазами умирающей и с закрученной в спираль талией, желая, вероятно, выразить таким образом неповторимость ее миллионерской души, — в большом салоне с окнами, в которые были видны старые, запорошенные снегом деревья, Кристоф всегда заставал Колетту у рояля, за бесконечным повторением все тех же фраз, ласкавших ей слух мягкими диссонансами.
— А! — восклицал, входя, Кристоф. — Кошечка снова замурлыкала!
— Невежа! — отзывалась со смехом Колетта.
(И протягивала ему немного влажную руку.)
— …Послушайте вот это. Разве не прелестно?
— Восхитительно, — равнодушно отвечал Кристоф.
— Да вы не слушаете!.. Извольте выслушать внимательно.
— Я слушаю… Ведь это все одно и то же.
— Ах, вы не музыкант! — с досадой говорила она.
— Как будто тут дело в музыке!
— Как! Не в музыке?.. Так в чем же тогда, скажите, пожалуйста?
— Вы сами отлично знаете, а я не скажу, потому что это не совсем пристойно.
— Тем более вы должны сказать.
— Вы требуете?.. Пеняйте на себя!.. Знаете, что вы делаете с вашим роялем?.. Флиртуете.
— Вот еще!
— Да, да. Вы ему говорите: «Милый рояль, душка рояль, скажи мне какую-нибудь любезность, поласкай меня, поцелуй меня!»
— Да замолчите! — обрывала Колетта, полусмеясь, полусердито. — Вы не имеете ни малейшего понятия об учтивости.
— Верно, ни малейшего.
— Вы дерзкий… А если даже это так, разве это не значит, что я по-настоящему люблю музыку?
— Нет уж, смилуйтесь, не будем примешивать сюда музыку.
— Но это же сама музыка! Красивый аккорд — ведь это поцелуй!
— Вот вы и проговорились.
— Разве не правда?.. Почему вы пожимаете плечами? Почему вы хмуритесь?
— Потому что мне противно слушать.
— Час от часу не легче!
— Мне противно слушать, когда говорят о музыке как о распутстве… О, вы в этом не виноваты! Виновата ваша среда. Все это пошлое общество, которое вас окружает, смотрит на искусство как на какой-то дозволенный разврат… Ну, довольно! Сыграйте мне сонату.
— Нет, нет, поговорим еще немного.
— Я здесь не для того, чтобы разговаривать, а чтобы давать вам уроки музыки… Ну, шагом марш!
— Вы очень любезны! — замечала Колетта, раздосадованная, но в глубине души восхищенная этим грубоватым обращением.
И Колетта играла заданный урок, стараясь изо всех сил, а так как способности к музыке у нее были, то получалось вполне прилично, иногда даже довольно хорошо. Кристофа трудно было провести, и в душе он смеялся над ловкостью «продувной девчонки, игравшей так, точно она чувствует то, что играет, хотя в действительности ничего не чувствует». Он проникался к ней какой-то насмешливой симпатией. А Колетта пользовалась любым предлогом, чтобы возобновить разговор, занимавший ее гораздо больше, чем урок. Тщетно Кристоф отговаривался тем, что не станет высказывать все свои мысли, потому что боится оскорбить ее, — ей всегда удавалось добиться своего; и чем оскорбительнее были слова Кристофа, тем меньше она обижалась: в этом и заключалось ее развлечение. Но так как Колетта была тонкая штучка и понимала, что Кристоф больше всего любит искренность, то не уступала ему ни пяди и спорила до слез. Расставались они, как самые лучшие друзья.
И все же никогда у Кристофа не возникло бы ни малейшей иллюзии насчет этой светской дружбы, никогда не установилось бы между ними и тени интимности, если бы в один прекрасный день Колетта не сделала ему признания — невзначай или из прирожденного кокетства.
Накануне у ее родителей был прием. Колетта смеялась, болтала, флиртовала напропалую; но на следующее утро, когда Кристоф пришел на урок, она встретила его утомленная, измученная, поблекшая, с лицом в кулачок. С трудом она выговорила несколько слов и казалась вся какой-то потухшей. Она села за рояль, играла вяло, наврала, попробовала поправиться, опять сбилась, оборвала игру и сказала:
— Нет, не могу… Извините… Может быть, немножко погодя…
Кристоф спросил, не больна ли она. Она ответила, что нет.
«Просто не в настроении… С нею это бывает… Смешно, конечно, но не надо на нее сердиться…»
Он предложил перенести урок на другой день, но она упросила его остаться:
— На минутку… Сейчас все пройдет… Какая я глупая, правда?
Он чувствовал, что ей не по себе, но не хотел расспрашивать и, чтобы переменить тему разговора, сказал:
— Вот что значит слишком блистать на вечере! Вы совсем вчера себя не щадили.
Колетта насмешливо улыбнулась:
— А вот про вас этого сказать нельзя.
Кристоф звонко рассмеялся.
— Вы, кажется, не произнесли ни одного слова, — продолжала она.
— Ни одного.
— А между тем у нас были интересные люди.
— Да, редкостные болтуны и умники. Я теряюсь, когда наблюдаю вашу французскую бесхарактерность, — тут все понимают, все прощают и ничего не чувствуют. По целым часам говорят о любви и об искусстве! Просто тошнит.