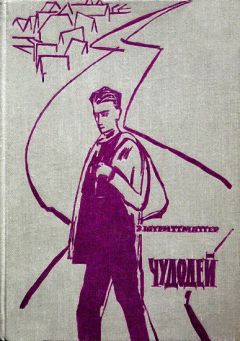— Я из тебя эту парижскую расхлябанность выбью!
Станислаусу пришлось трижды отдать честь, трижды пройти как положено под взглядом фельдфебеля, двигаясь угловато, на манер балаганной куклы. Дамы на променаде сдержанно хихикали, то ли над ним, то ли над оцепенело стоящим фельдфебелем, кто знает.
Итак, значит, и в этом огромном, чужом городе тоже гнездятся фельдфебели и разгуливают по улицам, чтобы портить ему жизнь, как и дома, в маленьком немецком городке.
С набережной он по каменной лестнице спустился к реке. Сена текла мимо, такая же грязная и зловонная, как все реки, текущие через большие города. Забранные в камень берега, лодки на маслянистой воде, маленькие корабли, водяные испарения. В кустах, в надежных гнездышках, стояли скамейки. На вислых ветвях прибрежных ив диковинными плодами казались драные носки, серее серого рубашки и дырявые штаны. Тут сидели бедняки веселого города, голые, босые, и ждали, покуда высохнет их одежка. Какой-то старик крошил корки солдатского хлеба. Еда из помойных баков. Объедки с немецкого стола. Горючее на день стариковской жизни. Тощая, распатланная женщина безумными глазами рассматривала свой зубной протез. Протез лежал на краю скамейки. Женщина, казалось, вспоминала время, когда ей еще нужны были искусственные зубы. Станислаус хотел незаметно пройти мимо. Однако немецкие солдатские сапоги выдали его. Тень его упала на скамейку старухи, на ее ненужные теперь зубы. Она с мольбой протянула ему протез. Тощим указательным пальцем она постучала по блестящему металлическому зубу:
— Купите золото, господин офицер!
Станислаус споткнулся на ровном месте, поднял с земли клочок бумаги, скомкал его и швырнул в реку, не сводя глаз с плавающего по воде шарика. Его продиктованному смущением занятию помешала парочка, шедшая впереди него в обнимку. Девушка целовала парня. Она, точно нежная дикая козочка, теребила губами ухо молодого человека. Влюбленные, казалось, и не слышат, как скрипят сапоги немецкого солдата.
Парочка остановилась понежничать, Станислаус тоже остановился. Нет, он не хотел им мешать! Любите, если вам это дано! Будьте добры друг к другу! У него было время подумать, что бы произошло, если бы он мог обратиться к влюбленным на их языке: будьте добры друг к другу! Он понял, что в этой чужой стране он не только полуслепой, но еще и немой. Станислаус проклинал свою судьбу. Солнце садилось в дымку. Деревья на набережной Сены потемнели. Вечер был теплый и сытый. Людей же мучил голод. Каждого свой.
У Нотр-Дам Станислаус опять поднялся на набережную. Он шел шаг за шагом, шел и шел — призрак, бредущий по Парижу. Люди, высокие и низкорослые, грустные и тихо улыбающиеся, спешащие и праздношатающиеся, проходили мимо него. Среди них то и дело попадалась серая военная форма, с большим или меньшим количеством серебра на воротниках, плечах и рукавах: немцы, его соседи по отчему дому. Он забывал вытягиваться в струнку, вращать глазами и отдавать честь. Что-то в нем бормотало как заведенная машина:
— Оставьте меня! Я вконец растерялся!
Людская туча заволокла улицу. Спешащие и праздношатающиеся, грустные и тихо улыбающиеся остановились. Людская туча надвигалась, сопровождаемая громовыми командами и похабными проклятиями: серые немецкие солдаты вели группу молодых людей, среди них были и девушки.
— Эй, шевелись! Тут тебе не ночлежка! Давай, давай!
Топот, топот, топот! Молодые парни с недоумением на лицах, с испуганными, что-то высматривающими или вызывающими взглядами, с руками, ищущими опоры, со сжатыми кулаками. Топот, топот, топот!
— Эй, собаки, марш, марш!
Невысокий старичок с бородкой клинышком, пошатываясь, сошел с тротуара, выбрался из толпы зрителей и направился к немецкому солдату. Солдат сорвал с плеча винтовку. Острие примкнутого штыка — как сигнал предупреждения — торчало у пуговицы на пальто старичка. Старичок замахал руками, указывая на юношу в людской туче. Юноша слабо кивал.
— Эда, mon fils, mon fils, — мой сын.
— Отойди, старый хрыч, ничего не пойму!
Он пнул старика, тот пошатнулся, сел на край тротуара и закрыл лицо руками. Солдат пошел дальше, вскинув винтовку на плечо. Старик еще несколько мгновений просидел, закрывшись руками, потом вскочил и бросился бежать вдоль людской тучи, протиснулся сквозь конвой к своему сыну, схватил его за руку и зашагал с ним вместе, быстрыми взглядами маленьких серых глаз озирая шедших рядом парней. Впереди, в людской туче, зазвучала песня. Солдаты из конвоя перешли на бег.
— Молчать!
Песня зазвучала громче.
Станислаус стоял в конце улицы, и все-таки он был не просто зевакой, ведь на нем была серая немецкая форма, и он чувствовал на себе сверлящие, презрительные взгляды. Он отошел за дерево. В самом хвосте людской тучи он заметил ту самую парочку с берега Сены. Будьте добры друг к другу! — так, что же это такое? Позади парочки с примкнутым к винтовке штыком шел бывший сторож железнодорожного переезда Август Богдан из Гурова, что под Фетшау. Станислаус шагнул на мостовую:
— Богдан!
Богдан схватил юного француза за воротник и остановился. Парочке тоже пришлось остановиться. Станислаус побледнел. Он говорил тихо и проникновенно, как когда-то, когда испытывал свои потайные силы:
— Ты берешь на себя такую ответственность, Богдан?
Богдан сунул штык себе в сапог и почесал ногу:
— Никакой ответственности я не беру на себя, вот что я тебе скажу. Мы должны были накрыть преступников в кинотеатре. Нас предупредили, что там, в кино, как это говорят, зачинщики беспорядков.
Станислаус задрожал.
— Зачинщики беспорядков? Но эти двое ни при чем. Я их видел у реки. Они там обнимались.
Влюбленные вслушивались в разговор, пытаясь понять. Богдан поднял винтовку и острием штыка потрогал тонкую шелковую блузку девушки.
— Да она с тобой ни за что не пойдет, вот что я тебе скажу. Она от него не отлипнет. Так что ж я могу? Да если бы даже она хотела пойти с тобой! Служба есть служба.
Тут вернулся фельдфебель и напустился на Станислауса, размахивая руками:
— Где твое оружие, сукин сын?
Фельдфебель как овчарка помчался опять вперед. Станислаус вспыхнул от ярости: сукин сын? Разве он не человек? Сколько можно сносить оскорбления от фельдфебелей? Голова колонны несчастных свернула за угол. Богдан вскинул винтовку на плечо и уже хотел идти дальше.
— Сейчас ты дашь им уйти, — сказал Станислаус, хватая Богдана за плечо.
Богдан застыл на ходу.
— Ты дашь им уйти, иначе будешь проклят до конца дней своих!
Суеверный Богдан увидел безумные глаза Станислауса, отшатнулся и опять застыл на месте. Станислаус подошел к влюбленным, раскинул руки и робко подтолкнул их:
— Fuyez! Бегите!
Влюбленные переглянулись.
— Fuyez!
Они бросились бежать. Под спасительной сенью деревьев они взялись за руки, люди, глазевшие на тротуаре, заслонили их. Они скрылись. Крики из толпы, сперва робко, потом громче:
— Браво, э-эй, браво!
Станислаус подтолкнул Богдана. Богдан испуганно вздрогнул, словно очнулся от глубокого сна.
— Ты меня заколдовал! Ты меня заклял! — вопил он.
Станислаус тянул его за собой. Они смешались с толпой на тротуаре.
14
Станислаус ищет новые цели жизни, сомневается в полноценности философов, и его сталкивают в бездну эстрадного искусства.
Утренней мглой повеяло от Сены. Деревья встряхнулись ото сна. Жители необычайного города вновь приступали к тому, что им надлежало делать в их положении во время этой окаянной войны. Они поддерживали свой собственный ход вещей, обменивались понимающими взглядами, делали намеки, любили и страдали. Все это на поверхности выглядело великим ожиданием, но в глубине его зашевелилось и ожило подполье: группу молодежи ночью увезли из Парижа в вагоне для скота; не так уж много людей, чтобы заметить их отсутствие в ежедневной картине города, но ведь это были люди. То тут, то там недосчитывались кого-то во время важных совещаний где-нибудь в укрытии.
В казарме той роты, что перестала быть кавалерийской, той роты, в которой уже никто толком не знал, что она такое и на что годится, раздался свисток дежурного унтер-офицера. Подъем! Трель свистка взрезала самые разные сны: дурные и приятные, о женщинах, о товарах, сны, дикие от вина, сны, пропитанные слезами, сны о победах и гирляндах из дубовых листьев.
Второй повар роты в это время уже возился на кухне. Утренний кофе был готов. Единственный человек, явившийся с котелком за этим истинно немецким ячменным пойлом, был Отто Роллинг из бывшей комнаты номер восемнадцать. Крылья его носа подрагивали от легкой насмешки.
— Ты, как я слышал, заколдовал Богдана.
Станислаус обомлел.
— Он говорил об этом?
— Я ему запретил болтать. Ты его загипнотизировал, да?