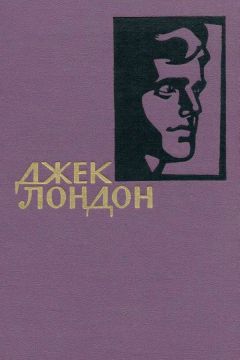— Хо-хо! — ревел Тостиг Лодброг, глядя, как псы терзают старика, меня и волчью шкуру.
Но Лингард поднялся на ноги и спас меня, оставив псам волчью шкуру.
Тостиг Лодброг допил свой мед и уставился на меня, а Лингард молчал, хорошо зная, что напрасно было бы искать милосердия там, где его не может быть.
— Мальчик с пальчик! — изрек Тостиг. — Клянусь Одином [131], женщины Северной Дании ничтожные создания. Они приносят на свет не мужчин, а карликов. На что годен этот мозгляк? Из него никогда не получится настоящего мужчины. Вот что, Лингард, вырасти мне из него кравчего для Бруннанбура. Только получше приглядывай за собаками, как бы они не сожрали его по ошибке вместо тех огрызков, которые мы им бросаем.
Я рос, не зная женского присмотра. Старый Лингард принял меня, и он же меня выкормил, а детской служила мне качающаяся палуба и колыбельной песней — топот и тяжелое дыхание мужчин во время битв и бури. Бог знает, как удалось мне выжить. Должно быть, я был рожден крепким, как железо, в железные времена, ибо я все-таки выжил и посрамил пророчество Тостига о том, что из меня получится карлик. Я быстро перерос все его кубки и чаши, и Тостиг уже не мог больше топить меня в кружке с медом. А это было его излюбленным развлечением. Эта шутка казалась ему необычайно остроумной и тонкой.
Мои первые детские воспоминания связаны с остроносыми кораблями Тостига Лодброга, с морскими битвами и пиршественным залом Бруннанбура в те дни, когда наши корабли отдыхали на берегу замерзшего фиорда. Я ведь стал кравчим Тостнга. и вот одно из самых ранних воспоминаний моего детства: с черепом Гутлафа, наполненным до краев вином, я ковыляю туда, где во главе стола восседает Тостиг, и от его зычного крика дрожат стропила. Все они там, обезумев от вина, вопили и стучали кулаками, а мне казалось, что так оно и должно быть, ибо другой жизни я не ведал. Все они легко приходили в ярость и тотчас хватались за оружие. Мысли их были свирепы, и они свирепо пожирали пищу и свирепо тянули мед и вино. И я рос таким же, как они. Да и как я мог расти иным, когда я подавал кубки бражникам, орущим во всю глотку, и скальдам, поющим о Хьялле, и об отважном Хогни, и о золоте Нифлунгов [132], и о мести Гудрун, которая дала Атли съесть сердца его и своих детей, а в это время в яростной драке крушились скамьи, раздирались занавеси, похищенные на южных берегах, и на пиршественные столы падали убитые?
О да, и мне тоже была знакома такая ярость, ей меня хорошо обучили в этой школе. Мне было всего восемь лет, когда я показал свои когти на пирушке в Бруннанбуре, устроенной в честь наших гостей — ютов, которые приплыли к нам как друзья на трех длинных кораблях во главе с эрлом Агардом. Я стоял за плечом Тостига Лодброга, держа в руках череп Гутлафа, над которым поднимался ароматный пар от горячего пряного вина. Я ждал, когда Тостиг кончит поносить северных датчан. Но он не умолкал, и я все ждал, пока, наконец, переведя дыхание, он не стал поносить женщин Северной Дании. И тут я вспомнил мою мать, и багровая ярость застлала мне глаза. Я ударил его черепом Гутлафа, вылив на него все вино, и оно ослепило его и жестоко обожгло. И когда он, ничего не видя, закружился на месте, пытаясь схватить меня и размахивая своими огромными ручищами наугад, я подскочил к нему и трижды вонзил в него кинжал: в живот, в бедро и в ягодицу, ибо не мог достать выше.
И тут эрл Агард обнажил свои меч, а за ним обнажили мечи и все его юты, и он закричал:
— Храбрый медвежонок! Клянусь Одином, он достоин честного боя!
И под гулкой кровлей Бруннанбура задыхающийся от ярости мальчишка-кравчий из Северной Дании вступил в схватку с могучим Лодброгом. Один удар — и мое бездыханное тело покатилось по столу, сметая с него чаши и кубки, а Лодброг крикнул:
— Вышвырните его вон! Бросьте его псам!
Но эрл не пожелал этого и, хлопнув Лодброга по плечу, попросил подарить меня ему в знак дружбы.
И вот, когда лед в фиордах растаял, я поплыл на юг на корабле эрла Агарда. Он сделал меня своим кравчим и оруженосцем и дал мне имя Рагнар Лодброг. Владения Агарда граничили с землей фризов. Это были унылые, заболоченные равнины, вечно окутанные туманами. Я прожил у эрла три года, до дня его смерти, и всегда был рядом с ним — охотился ли он на волков по болотам или пировал в большой зале, где нередко присутствовала и его молодая жена Эльгива, окруженная прислужницами. Я сопровождал Агарда в южном походе, когда его корабли дошли до побережья нынешней Франции, где я узнал, что чем дальше к югу, тем теплее климат, мягче природа и нежнее женщины.
Но в этом набеге Агард был смертельно ранен и вскоре умер.
Мы сожгли его тело на высоком погребальном костре. Его жена Эльгива в золотой кольчуге с пением взошла на погребальный костер и встала рядом с его телом, и с ней сожгли множество челядинцев в золотых ошейниках, а также девять рабынь и восемь рабов-англов знатного происхождения. И много соколов вместе с двумя мальчишками-сокольничими.
Но я, Рагнар Лодброг, кравчий, не сгорел. Мне было одиннадцать лет, я не ведал страха, и мое тело не знало другой одежды, кроме звериных шкур. Когда языки пламени взвились ввысь, и Эльгива запела свою предсмертную песнь, а рабы, пленники и рабыни стонали и кричали, не желая умирать, я порвал свои путы, спрыгнул с костра и, как был — в золотом ошейнике раба, — бросился к болотам и добрался до них, когда пущенные по моему следу свирепые собаки совсем уже настигали меня.
В болотах прятались одичавшие люди: беглые рабы и преступники, на которых охотились ради забав, как на волков.
Три года провел я без крова над головой, не греясь у огня, и стал крепким, как обледеневшая земля. Я хотел было украсть себе у ютов женщину, но тут мне не повезло: за мной погнались фризы и после двухдневной охоты схватили меня. Они сорвали с меня золотой ошейник и продали за двух собак-волкодавов меня саксу Эдви, который надел на меня железный ошейник, а потом подарил вместе с пятью другими рабами Этелю из страны восточных англов. Я был рабом, а потом стал дружинником, но во время неудачного набега далеко на восток, где кончались болота, я попал в плен к гуннам. Там я был свинопасом, но бежал на юг, в большие леса, и был принят в племя тевтонов как свободный.
Тевтоны были многочисленны, но они жили маленькими племенами и отходили на юг под напором гуннов.
Но тут с юга в большие леса пришли римские легионы и отбросили нас назад к гуннам [133]. Нас сдавили так, что нам некуда было податься, и мы показали римлянам, как мы умеем драться, хотя они ничуть не уступали.
Но в душе моей все время жило воспоминание о солнце, которое сверкало над кораблями Агарда, когда мы плавали в южные страны, и судьбе было угодно, чтобы, отброшенный вместе с тевтонами к югу, я попал в плен к римлянам и был привезен снова на море, которого я не видел с тех пор, как бежал от восточных англов. И я снова стал рабом — гребцом на галере, и вот, ворочая веслом, я впервые попал в Рим.
Рассказ о том, как я стал свободным человеком, римским гражданином и солдатом и почему, когда мне исполнилось тридцать лет, я должен был поехать в Александрию, а оттуда в Иерусалим, занял бы слишком много времени. Однако я не мог не рассказать вкратце о первых годах моей жизни, после того, как Тостиг Лодборг окунул меня, новорожденного, в чашу с медом, так как иначе вам трудно было бы понять, что представлял собою человек, который въехал на коне в Яффские ворота и приковал к себе все взгляды.
Да и было на что посмотреть. Все эти римляне и евреи были низкорослыми и узкокостными, и такого крупного светловолосого великана им еще не доводилось видеть. И пока я ехал по узким улочкам, они все расступались передо мной, а потом останавливались и смотрели вслед белокурому человеку с севера. Впрочем, в последнем они вовсе не были уверены, ибо их познания о северянах были более чем скудными.
В распоряжении Пилата были, в сущности, только вспомогательные войска, набиравшиеся в провинциях. Горсточка римских легионеров охраняла дворец, да еще со мной прибыло двадцать римских солдат. Не отрицаю, вспомогательные войска не раз отличались в сражениях, но по-настоящему надежными солдатами были только римские легионеры. Они превосходили даже нас, северян, потому что всегда были готовы к бою; мы же хорошо дрались, только когда нам припадала охота, а в другое время угрюмо отсиживались в своих далеких селениях. А римляне были неизменно тверды и надежны.
В первый же вечер после моего приезда я встретил в доме Пилата подругу его жены, пользовавшуюся немалым влиянием при дворе Ирода Антипы [134]. Я буду называть ее Мириам, ибо так звал я ее, полюбив. Если бы передать женское обаяние было трудно, но возможно, я сумел бы описать Мириам. Но такое обаяние неизъяснимо. И слова тут бессильны. Это ведь не впечатления, воспринимаемые рассудком. Женщина чарует наши чувства, и из этого рождается страсть, являющаяся своего рода сверхчувством.