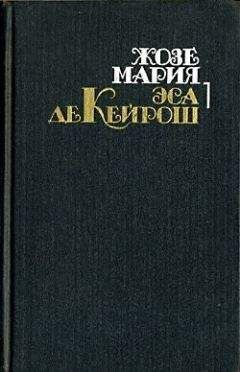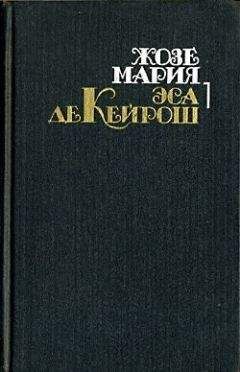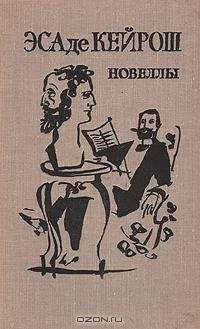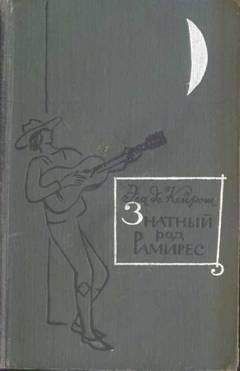Он вышел. Каноник как раз взбирался наверх, и они встретились на лестнице.
– Ну как? – шепотом спросил Амаро.
– Все в порядке. А у тебя?
– Idem.
И на темной лестнице оба священнослужителя молча пожали друг другу руку.
Несколько дней спустя Амелия после горестной сцены расставанья уехала на шарабане в Рикосу с доной Жозефой.
Для выздоравливающей устроили в углу повозки удобное гнездышко из подушек. Каноник поехал их провожать, молча злясь на эту новую жертву. Жертруда восседала наверху, на тюфяке, в тени горы, образовавшейся на крыше экипажа из кожаных баулов, корзин, бидонов, узлов, мешков, корзины, в которой мяукала кошка, и ящика, куда упаковали изображения самых любимых святых доны Жозефы.
В конце недели, к вечеру, когда спал зной, наступило и для Сан-Жоанейры время перебираться в Виейру. Всю улицу Милосердия загромоздила запряженная волами телега, на которую грузили посуду, матрасы, кастрюли, а на том же самом шарабане, который увез двух дам в Рикосу, теперь сидели Сан-Жоанейра и Руса, тоже державшая на коленях корзину с кошкой.
Каноник отбыл накануне. Один Амаро присутствовал при отъезде Сан-Жоанейры. После длительной суматохи, после беготни вверх и вниз по лестнице то за забытой кошелкой, то за пропавшим свертком, когда Руса заперла наконец дверь на замок, Сан-Жоанейра, уже стоя на подножке шарабана, вдруг залилась слезами.
– Полно, сеньора, полно! – уговаривал Амаро.
– Ах, сеньор настоятель, зачем я оставила Амелию одну! Вы не можете понять, как это ужасно… Мне кажется, ее больше не увижу. Наведывайтесь почаще в Рикосу, окажите такую милость. Поглядывайте, как она там…
– Будьте покойны, милая сеньора.
– Прощайте, сеньор падре Амаро! Спасибо за все. Я стольким вам обязана!
– Пустяки, милая сеньора… Счастливого пути, пришлите мне весточку! Привет сеньору канонику. Прощайте, сеньора! Прощай, Руса…
Шарабан тронулся. Амаро медленно шел вслед за ним до поворота на Фигейру. Было уже девять часов, луна взошла, озарив теплую, тихую августовскую ночь. Светлая дымка окутывала безмолвную землю. Там и сям стена какого-нибудь дома блестела под луной, в темной рамке деревьев. Амаро остановился у моста и бросил задумчивый взгляд на реку, с однообразным журчаньем бежавшую между песчаных берегов. В тех местах, где деревья склонились над ее руслом, густел непроглядный мрак; зато дальше от берега лунные блики дрожали на воде, словно искрящееся кружево. Амаро долго стоял в этой успокоительной тишине, куря сигарету за сигаретой и бросая окурки в воду. Им овладела беспричинная грусть. Услышав, что бьет одиннадцать, он повернул обратно в город. Прошел, расчувствовавшись от воспоминаний, и по улице Милосердия. Дом Сан-Жоанейры с закрытыми ставнями, за которыми не видно было кисейных занавесок, казался покинутым навсегда; забытые вазоны с розмарином по-прежнему высились в углах балконов… Сколько раз они с Амелией стояли вместе на этой веранде, держась за перила! В ящике цвели гвоздики, и, разговаривая, Амелия иногда отрывала листок и покусывала его зубами. Всему пришел конец! Уханье сов, ютившихся на крыше Богадельни, навевало чувство одиночества, запустения и смерти.
Он медленно пошел домой со слезами на глазах.
Не успел он войти, как служанка сообщила, что дядя Эсгельяс, в сильном расстройстве, спрашивал его дважды, часов так около девяти. Тото при смерти, она желает исповедаться, причаститься и собороваться непременно у сеньора настоятеля.
Какое-то суеверное опасение подсказывало падре Амаро, что не следует в эту ночь идти ради печального долга в дом, с которым связано столько счастливых воспоминаний; но все же он пошел, чтобы не обидеть дядю Эсгельяса. Смерть Тото так странно совпала с отъездом Амелии… Тягостное чувство овладело душой Амаро: вдруг сразу уходит все, что составляло в последнее время его жизнь.
Дверь в домик звонаря была полуоткрыта; в темной прихожей он наткнулся на двух женщин, которые уходили, вздыхая. Он направился прямо к алькову парализованной. Две толстые восковые свечи, принесенные из церкви, горели на столе; тело Тото было накрыто белой простыней, падре Силверио, дежуривший на этой неделе, читал по молитвеннику, разложив на коленях платок. Он встал, как только увидел падре Амаро.
– Ах, коллега, – сказал он почти шепотом, – вас искали по всему городу. Умирающая требовала непременно вас. Когда за мной пришли, я как раз собирался к Новайсам, перекинуться в карты. Ведь сегодня суббота… Какая здесь разыгралась сцена! Она умерла без покаяния… Что тут было, когда я появился вместо вас! Право, я боялся, что она плюнет на мое распятие…
Амаро, не ответив ни слова, приподнял уголок простыни, но поскорей снова опустил его на лицо мертвой. Потом пошел в верхнюю комнатку. Звонарь, лежа на кровати лицом к стене, безутешно рыдал. Там была какая-то женщина: она сидела в уголку безмолвно и неподвижно, не поднимая глаз и, видимо, тяготясь исполнением долга, налагаемого соседством. Амаро, положив руку на плечо звонаря, сказал:
– Надо терпеть, дядя Эсгельяс… Такова воля господа. Для нее это лучше.
Дядя Эсгельяс повернулся на голос. Увидев сквозь пелену слез, застилавшую ему глаза, соборного настоятеля, он взял его руку и хотел поцеловать. Амаро отступил.
– Что вы, дядя Эсгельяс!.. Бог милосерден… Он зачтет ей ваше горе…
Тот не слушал, рыданья сотрясали его. Соседка совершенно хладнокровно подносила платок то к одному глазу то к другому.
Амаро спустился и, чтобы избавить добряка Силверио от исполнения чужих обязанностей, занял его место у стола, где горела свеча, и раскрыл требник.
Он остался здесь на всю ночь. Соседка, уходя, заглянула к нему, сообщила, что дядя Эсгельяс задремал, и пообещала вернуться на рассвете с другими женщинами, чтобы обрядить покойницу.
Весь дом погрузился в безмолвие, которое от соседства собора казалось еще мрачней; лишь изредка сыч кричал на башне да гулкий бас соборных часов отбивал четверть часа. Охваченный смутным страхом, но прикованный к месту голосом неспокойной совести, Амаро торопливо читал молитву за молитвой… Требник то и дело выпадал у него из рук. Он застывал в неподвижности, все время чувствуя за спиной присутствие трупа, накрытого простыней, и с болью вспоминал радостные часы, когда солнце заливало двор, в небе вились ласточки, а они с Амелией со смехом поднимались в верхнюю комнатку, где теперь, на той же самой кровати, дремал дядя Эсгельяс, а в горле у него еще клокотали рыданья…
Каноник Диас настоятельно советовал Амаро хотя бы первое время воздержаться от визитов в Рикосу, чтобы не возбудить подозрения у сестрицы Жозефы и у служанки. Жизнь Амаро стала еще печальней и пустей, чем в те времена, когда, покинув дом Сан-Жоанейры, он переехал на улицу Соузас. Никого из знакомых не осталось а Лейрии: дона Мария уехала в Виейру; сестры Гансозо жили где-то под Алкобасой у тетки, той самой знаменитой тетки, которая уже десять лет была при смерти, томя племянниц ожиданием Богатого наследства. По окончании службы в соборе долгие дни влачились тяжко, точно свинцовые гири. Святой Антоний[137] в песках Ливийской пустыни был не более отрезан от всего живого. Один лишь коадъютор, который – странное дело! – никогда не появлялся у Амаро в дни счастья, опять возобновил свои посещения к концу обеда, раз или два в неделю, точно докучливый спутник горестных дней. Он стал еще костлявей, еще изможденней, еще угрюмей, чем был, и являлся по-прежнему со своим неразлучным зонтом. Амаро возненавидел этого человека. Иногда, чтобы поскорей выпроводить непрошеного гостя, он притворялся, что погружен в чтение; или же, заслышав на лестнице медленные шаги, торопливо усаживался за стол и говорил:
– Дорогой мой, извините, мне необходимо кое-что написать.
Но тот прочно располагался на стуле, поставив зонт между колен.
– Не стесняйтесь, сеньор соборный настоятель, не стесняйтесь.
И Амаро, полный ненависти к этой сумрачной фигуре, не желавшей встать со стула, злобно бросал перо и хватался за шляпу:
– Нет, сегодня что-то не клеится, пойду пройдусь!
И на первом же углу он без церемоний убегал от коадъютора.
Иногда, не в силах выносить одиночество, Амаро отправлялся к падре Силверио. Но ленивое довольство этого жирного существа, всецело поглощенного собиранием рецептов домашней медицины и причудами своего пищеварения, нескончаемые похвалы доктору Годиньо, его супруге и деткам, неизменные шутки, которые повторялись уже сорок лет все с тем же невинным весельем, – все это выводило из себя падре Амаро. Он уходил, раздраженный до крайности, проклиная злую судьбу, создавшую его столь непохожим на падре Силверио. Ведь, в конце концов, это и есть счастье! Почему ему не суждено тоже быть тупоголовым добряком священником, занимать свои досуги какой-нибудь невинной, но всепоглощающей манией, быть прихлебателем и любимцем влиятельного семейства, счастливцем, в чьих жилах спокойная кровь течет себе под слоем жира, как тихая речонка под толщей гор, никогда не грозя выйти из берегов и натворить бед?