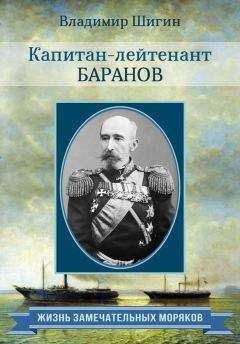Но тут старик, сидевший до этого на бревне, встал:
— Ну, ребятушки, хватит вам кидать! Теперь моя очередь!
Он резво бросил в воздух свою тоже новую кепку. Бух! — парень уже натренировался и палил довольно сносно. Кепку разнесло по всем правилам…
Дыры считают все вместе, и Мишкины слезы почему-то рассасываются, предчувствие великой домашней беды сразу ослабевает.
* * *
Дома он мужественно выдерживает свои роковые минуты, впервые в жизни не подал голосу. Когда буря утихла, Мишка, вздрагивая плечами, садится за уроки. Потом идет в сени, берет удочку и, накопав червей, отправляется на реку.
Вороны и галки давно затихли и расселись кто где. Старик, теперь уже в пограничной, привезенной сыном фуражке, идет за сосновыми лапками для помела и останавливается около Мишки, на речном мостике. Глаза у старика весело щурятся.
— И охота тебе, Мишка, мерзнуть, шел бы домой. Мишка молчит.
— Много наудил-то? Ишь какой окунище, наверно, без очереди клюнул. И маневры, наверно, на крючке выделывал, как новобранец. Делал маневры-то?
— Ыхы, — соглашается Мишка.
— Ну вот, я и гляжу, что окунь такой большой долбило. Старик осторожно положил на бревна единственного крохотного окунька.
Вдруг поплавок резко качнулся и исчез. Мишка присел, дернул, и громадный красноперый окунь смачно зашлепал хвостом по настилу мостика. Мишка быстро наживил заново. Через минуту такой же громадный окунь повис на крючке, потом третий, четвертый.
Старик крякнул.
— Ты, значит, Мишка, это… червяков-то где накопал, за хлевом, что ли?
…На следующий день, когда Мишка был в школе, зеленая пограничная фуражка с утра маячила на мостике. Но клева не было, окуни словно приснились.
— Что старый, что малый, — ворчит бабка, идя за водой.
А время идет своим чередом, и осень уже вбивает в безбрежное небо последние журавлиные клинья. Пройдет зима и весна, отшумит лето. И скоро, очень скоро перейдет Мишка в другой класс…
Весной в родимом лесу нечаянно-быстро приходит та радостно-страшная ночь, когда весь мир и вся Вселенная встают на дыбы. Жизнь и земля со всею природой выходят из своих берегов и топят душу в безжалостном счастье. Это тогда постигают многие люди, что нет нигде ни конца, ни начала.
Прошла единственная минута, короткий момент исчезания последнего холода. Ушла, изморилась вконец поверженная апрелем зима. Вот в тревожной темени родилось и двинулось всесветное, уже не слоистое, а тугое, плотное тепло, превращая себя в мощный и ровный ветер. Дрогнули готовые распуститься дерева. Где-то в невидимом, но почти осязаемом небе сшиблись широкими лбами темные облака. Неяркая вешняя молния сиганула в лесную теплую мглу, и первый трескучий гром чисто и смело прокатился над миром.
Будто раскатилась каменка нездешней, какой-то сказочно богатырской бани.
Странная тишина томится в лесу после этого грохота. Ветер не дует, а давит сплошь, все замирает.
Дождь прошипел в ночи обильно и коротко. Везде в снующей, исчезающей темени сопит пахнущая корнями земля: это зашевелились в несметном числе травяные ростки, поднимая и распахивая прошлогодние листья, хвоинки и сгнивающие сучки.
Утром золотые столбы испарений поднимаются в лесных прогалинах, словно добрые призраки, они безмолвно и быстро меняют свои исполинские контуры. На березах еле слышно оживают размякшие ветки, от лопающихся почек они тоже меняются, делают свой уток и основу. На восходе легко и неторопливо выпрастываются из почек маленькие, в детский ноготок, листочки. Солнце выходит очень быстро. Яростно-новое, с неопределенными очертаниями, оно греет еще бледную, но густеющую с каждой минутой зелень березняка. Птицы поют взахлеб, земля продолжает сопеть и попискивать, все поминутно меняет свой образ. Везде в мире жизнь и свобода, и сердце сопереживает чувство освобождения: да не будет конца свободе и радости!
Да не будет конца. Но там, за чередою весенних дней, земля уж обрастает жирной травой. Зелень полян незаметно теряет свою первозданную свежесть, и жесткими бородавками покрывается когда-то нежный березовый лист. Ленивеют и толстеют в небе опаловые облака, идущие все в одну сторону, надменно, самодовольно начинают рычать огрубевшие громы. И тогда в лесистых чащобах рождаются полчища кровожадного гнуса, ползут и ползут по веткам бородатые мхи. В земле, меж миллионов корней, враждующих и борющихся за ее кровь, цепко ветвятся, проползают грибницы. И никому не известно, что творится в темном земном нутре, только поверх тут и там поднимаются красные шапки мухоморов. В такую пору в лесу впервые ощущается запах гнили. Еще не стихло зеленое, разнузданное пиршество лета, а нити грибных дождей уже напрасно сшивают самобранную июльскую скатерть: в сентябре одно за другим все умирает, засыпает будто в похмельном сне.
Зачем же, ради чего была тогда и весна? Если в декабре снова все в мире оцепенело, если опять все сковано ледяными цепями, белою снежною шубой?
Но снова ждешь почему-то такой же весенней ночи. Ждешь, хотя знаешь, что с нею придет то же самое и что все будет точь-в-точь как и раньше.
Деревня по случаю сенокоса безлюдна, одни куры, зарываясь в дорожную пыль, подают признаки жизни. Жарко, особенно к полудню, и тихо. Проходя деревенской улицей, слышу оклик из окна летней избы, по-здешнему — передка. Оглядываюсь.
— Батюшко, ты чей?
Я сказал. Женщина внимательно выслушала, восхищенно поцокала языком:
— Экой хороший парень-то. Я пожал плечами.
— Да ты грамотный? — спросила она.
— Вроде бы ничего. А что?
— Да написал бы письмо.
Я слегка растерялся от такой просьбы И спросил в задумчивости:
— Письмо? — Да.
— Кому письмо-то?
— Да в Архандельск, золовушке.
«Ну, коли золовушке…» — думаю я и не мешкая поднимаюсь по лестнице.
Какие только выкрутасы не припасает командировочная судьба!
В доме чисто и очень прохладно, пол застлан красивыми половиками. Женщина пожилая, но довольно еще бодрая, то и дело меня спасибуя, разъясняет, куда сегодня ходила косить и с чем пекла пироги. Потом рассказывает мне про боль в пояснице и про свою корову, которой еще «что на умок придет» и которая еще не каждое пойло пьет, потому что все, и коровы теперь тоже, стали с высшим образованием.
— Самовар поставить али супу будешь хлебать?
— Да как сказать…
Однако, спохватившись, я решительно отказываюсь от чаю и супу. Но уже поздно, и мне приходится сесть за стол. С трудом обходимся без супу. Губники, то есть пироги с прошлогодними солеными рыжиками, отнюдь меня не разочаровали. И пока я дожевываю пирог, женщина подает мне конверт, школьную тетрадочку и химический карандаш. Я откашливаюсь:
— Так. С чего будем начинать?
— Так ведь уж что, батюшко, пиши с самого начала.
__?
— Пиши: баню перекатила, корова доит хорошо.
Я в растерянности скребу в затылке.
— Это… самое… Имя-отчество-то у вас как?
— Григорьевна, батюшко, Григорьевна была с первого дня.
— Так ведь надо, Григорьевна, с поклонов, наверно… или как?
— С поклонов, батюшко, знамо с поклонов. Дак ты разве не писывал? Вот мне Минька все пишет, до того у прохвоста ловко выходит, каждое слово как тут и было.
— Какой Минька?
— Да Нюркин, суседкин парень. В шестой уж класс перешел, он мне все и писал письма-ти. А ноне в лагерях вторую неделю. Говорят, и встают по трубе, и спать по трубе укладываются. А Нюрка-то с мужиком развелась, пятый год врозь живут. В леспромхоз ходил в работу, да там с какой-то вербованной девкой и спутался. Говорит, хоть пополам рубите, а эту бабу не оставлю. Вот что делают, мокрохвостки! Раньше ну-ко так-то! Нонешние бабы из-за мужиков ни с чем не считаются. У тебя-то есть семейство?
— Есть.
— А деток-то много ли?
Ах ты боже мой, все ей надо знать! Впрочем, и про себя она ничего не скрывает, наоборот. В каждую свою фразу Григорьевна, выражаясь по-современному, стремится вложить как можно больше информации.
— Ну, хорошо, — перебиваю я, ощущая ответственность. — Я, значит, начну так: «Добрый день либо вечер…»
— …Здравствуй, дорогая золовушка, — подхватывает она, в такт покачивая головой, — Людмила Степановна, еще кланяюсь вашей семье, а именно сыну Коле со всем семейством, да дочке Вале с Люсей и Витей да еёному мужу Павлу Сергеевичу, а брату Естафью перьвой поклон!
— Стоп! — я не совсем уверенно ставил точки и запятые и боялся, что все перепутал.
— Сын Коля, — это ваш или золовушки?
— У меня, батюшко, деток не было, и я с мужиком-то одну недельку жила. Увезли в мокрые страны, когда раскулачивали.
— Значит, Коля — это золовушкин сын?
— Золовушкин.