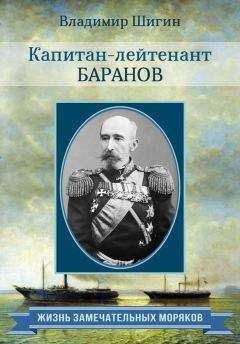Из коридора нахлынули люди, и ему пришлось тоже встать и продвинуться ближе, он чувствовал, что был поражен и разбужен от какой-то не подозреваемой ранее спячки. Изумительная, мелодичная и в то же время порывисто-быстрая игра баяниста как нельзя лучше сочеталась с великолепным северным вариантом «барыни», только убыстренной и трансформированной в сторону чего-то непостижимо своего, трогательно-местного.
Он смотрел и слушал все это, и где-то в глубине сердца, в подсознании уже нарождалась мысль о том, что до сих пор именно такого, родного своеобразия недоставало ему в его выступлениях там, на своих и чужих подмостках.
Но эта мысль только еще нарождалась. Сейчас он ясно сознавал только то, что в его ногах сладко заныло нетерпение, и появилась жажда движений, вызываемая этими переходами и переборами ладов, этим печально-веселым басовым рокотом. И он уже знал, что не выдержит, сейчас тоже выйдет на круг, и напряженно следил за пляшущим, и боязнь того, что у него может получиться хуже, еще больше подзадоривала и толкала на круг.
Сердце от этого риска затукало еще чаще, он, улыбаясь, понемногу пробрался к середине. Он чувствовал, что его уже заметили и что пляшущий тоже почувствовал, кого надо вызвать на перепляс, он знал, что парень вызовет только его. Восторг, риск и тревога вдруг сделали легким и радостным все тело. Он весь внутренне напрягся, замер, потом профессиональным волевым усилием освободился от этого напряжения, готовя свободу одним только мышцам и своему сердцу, — как вдруг игра оборвалась.
Это было так нелепо, так не нужно именно в эту минуту, что он растерянно и недоуменно оглянулся. Пляшущий парень замер, словно поперхнувшись, махнул рукой и сразу, постаревший, пошел на выход. Галя — заведующая — все еще сжимала меха баяна, не давая баянисту играть. Она взяла баян и, стуча в тишине каблучками, отнесла за сцену.
В ту же минуту громко заиграла радиола.
Галя, покраснев от негодования и решительности, вернулась на прежнее место.
— Извините, Андрей Николаевич! Никак не могу отучить их от этого бескультурья!
Все произошло очень быстро. Две или три пары девушек посреди зала снова неумело задвигали бедрами…
Он взглянул на заведующую: румянец решительности еще не растаял на ее круглых щечках.
Она возмущенно теребила связку ключей:
— Иногда приходится милиционера вызывать, никак не могу отучить…
Он сидел на скамье, глядя на носки своих чехословацких лакированных ботинок.
— Отучите, ничего… — сказал он.
— Да? — она, ничего не поняв, с радостной гордостью вскинула на него реснички.
— Отучите…
И все то счастливое, радостное, что переполняло его весь этот день, прожитый здесь, на родине, все это исчезло сейчас, и в душе была пустота. Он глядел на лакированные носы своих модных ботинок, старался определить связь между этими дорогими ботинками и тем, как он плясал когда-то босиком на грязном барачном полу.
Старался и никак не мог осмыслить эту неуловимую связь.
Зимою не то что летом: вокзалы маленьких станций пустые и чистые. Поездов мало, да и останавливаются они не все. На радость уборщице, никто не сорит шелуху семечек, народу совсем нету. Зал ожидания небольшой и какой-то совсем домашний, даже с котом. Кот еще не очень стар и не спит, потому и крутится на полу, преследуя собственный хвост. Пашка, парень двухметрового роста, в черном полупальто и в черных с галошами валенках, угостил кота рыбной головкой, сказал:
— Жук, ну ты и жук!
Пашка попил из бачка воды. Еще раз перечитал поездное расписание. До поезда оставалось больше двух часов. (Пашка едет в район, по делам.) Что делать? И тут как раз вошла маленькая, опрятная, неопределенных лет старушка: Маша Моховка. Она из другого колхоза, Пашка видал ее и раньше. Слыхала про него и она. Поговорить, что ли? Пашка с добродушным покровительством спрашивает:
— Куда поехала-то?
— Да за очками.
— Ну, ну.
— У меня глаза-то вострые были, всю жизнь кружева плела. А нынче фершалица бумажку и выписала. Да и народ говорит, что лучше с очками-то.
— Мало ли чего народ говорит, — важно замечает Пашка. — Ты бы других-то меньше слушала.
— Да ведь как, ясный день! Кабы глаза-то хорошие были. Прежние.
Пашка не находит что возразить, и разговор останавливается. За окном грохочет порожняком товарный поезд, и опять все тихо. Кот спит, растянувшись на деревянном диване. Пашка тоже пытается подремать. Но у него ничего не выходит.
— Ты чего, из «Победы», что ли?
— С Назаровской, — охотно отзывается собеседница. — А родом-то с Ортемьева. Меня мама во мху на болоте родила. По клюкву-то утащилась одна, а домой — на тебе, обе-две! — Старушка рассмеялась, а Пашка даже подвинулся ближе:
— Во дают! Нет, сурьезно?
— Я те говорю. В те поры Моховушкой меня и прозвали. А фамиль Кукина. По дедушку. Такой был водохлеб чаепитьевич, мало и хлеба кушал.
— А вино?
— В рот не брал до самой смерти.
— Ну, этому я ни в жизнь не поверю.
— Да что ты, бес малохольный, я разве вру?
— Врешь! — убежденно сказал Пашка. Отодвинувшись на прежнее место, он поднял воротник и закрыл глаза с новым намерением подремать.
На вокзале опять тишина. Но вскоре Пашка, словно чего-то вспомнив, оживленно высовывается из воротника:
— А замужем-то бывала?
— Нет, ясной день, не выхаживала.
— Ну и здря! — Он опять прячет нос в воротник.
Слышно, как за стеной, у дежурного, долго звенит звонок, как дежурный не очень официально переговаривается с соседней станцией. Снова проходит теперь уже груженый и потому менее шумный товарняк.
— Семьдесят уж годов на белом свете живу.
— Дак чего одна-то делала столько годов?
— А всю жизнь только пела да плакала! Ясной день, а и с детками вон живут, тоже маются. Серафиму-то знаешь, ортемьевскую?
— Ну.
— Дак зять-то в крещенский мороз двери в избе отворил. «Вот, — говорит, — пока не уйдешь, никому не дам затворить». А и у сына хорошего мало. Невестка ругмя ругает. Больно уж много теперешним бабам власти дадено.
— Это точно.
— А мужики-ти?
— Ну а чего — мужики, чего — мужики! Я вот свою тещу знаешь как уважаю!
— Хороший мужик.
— …ставлю выше жены.
— Ладно, ясной день, ладно и делаешь. Дак вот Серафима-то нонче летом ко мне и пришла. На печь-то закарабкалась. Полежала до паужны да и спрашивает: «Я, Марьюшка, постону?» Я говорю: «Стони, матушка, стони. Как тебе надо, так и стони». Да и постонала всего ничего.
— Умерла?
— Пошто умерла, ушла по ягоды.
— Хм… Вот труперда!
Разговор снова надолго затих. Маша Моховушка решила подзакусить и развязала кошелку. Достала крашенное луковой кожурой яичко, хлебца и соль, завязанную в кончик платка.
— Ну а уж кренделей-то, — говорит, — я там поела. Пока в городу-то жила. Поспи, ясной день, поспи.
Пашка не отзывается из своего высокого воротника. Но старушка продолжает рассказывать:
— А я ночью-то севодни не могла зауснуть, под утро уж зауснула-то. Чую сквозь дрему-то, второй раз алектор пропел.
— Кто, кто? — очнулся Пашка.
— Петух, говорю!
— Ну это… радио, что ли?
— Пошто радиво!
— Да кто пропел-то?
— Да петух.
— А говоришь, электро.
— Я и говорю, что петух.
— Ну?
— Чего, батюшка, ну?
— Да это… кто пропел-то?
— Да петух.
— А ну тебя!.. — Дашка в сердцах отмахнулся: он подумал, что старушка, «это самое», начинает выживать из ума, и решил отступиться. Да и вообще он не очень доверял женщинам. Прошло минут пять. Пашка встал, молча походил. Сел — нога на ногу.
— «Прынц и нищий» читала?
— Чево?
Пашка безнадежно махнул рукой. И вновь стало тихо. На этом маленьком зимнем вокзальчике.
Часов в одиннадцать в воскресенье в городском парке совсем тихо. Никого нет, лишь одна парочка присела на скамью за кустами акаций да какая-то бабушка в ситцевой горошками кофте сидит около танцплощадки.
Другая старуха с суровым видом, седая и толстая, открывает свои «аттракционы» — качели и колесо обозрения. Но покамест ни качаться, ни кататься на колесе доброхотов нет, и старухам хочется поговорить. Понемногу они сближаются, усаживаются:
— Чем врозь-то сидеть…
Перекинувшись двумя-тремя словами, бабки оживляются все больше и больше: от ревматизма и бессонницы разговор переходит к свежим помидорам, от помидоров к невесткам, потом к зятьям и деткам.
— Сама-то ты здешняя? — спрашивает хозяйка аттракционов.
— Нет, милая, не здешняя, из деревни бывала, — говорит бабушка в гороховой кофте.
— А я тут живу всю жизнь. Пенсия да поработаю сколько. Вот и живу, на деток-то не надеюсь.