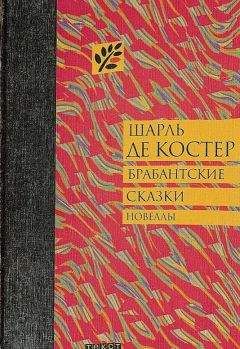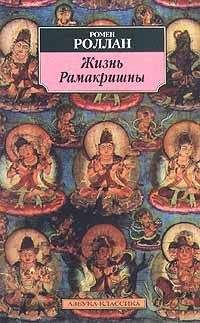И тогда ему отрубили правую руку, язык просверлили каленым железом, а затем он был сожжен на медленном огне у ворот ратуши.
Перед смертью он крикнул:
— Не достанутся королю мои денежки! Я солгал!.. Я еще вернусь к вам, свирепые тигры, и загрызу вас!
А Тория кричала:
— Час расплаты настал! Час расплаты настал! Корчатся его руки, корчатся его ноги, спешившие на разбой! Дымится тело душегуба! Горит белая шерсть, шерсть гиены, на его помертвелой морде! Час расплаты настал! Час расплаты настал!
И рыбник умер, воя по-волчьи.
А с колокольни Собора богоматери плыл похоронный звон.
А Ламме и Уленшпигель снова сели на своих осликов.
А Неле осталась мучиться с Катлиной, твердившей одно и то же:
— Уберите огонь! Голова горит! Вернись ко мне, Ганс ненаглядный!
1В Хейсте Уленшпигель и Ламме смотрели с дюны, как одно за другим прибывали из Остенде, из Бланкенберге, из Кнокке рыбачьи суда с вооруженными людьми, а на шляпах у вооруженных людей, как у зеландских Гёзов, был нашит серебряный полумесяц с надписью: «Лучше служить султану турецкому, чем папе".
Уленшпигель был весел, пел жаворонком, в ответ ему со всех сторон раздавался боевой клич петуха.
Распродав наловленную рыбу, люди выгружались в Эмдене{172}. Там все еще находился Гильом де Блуа{173} и по распоряжению принца Оранского снаряжал корабль.
Уленшпигель и Ламме прибыли в Эмден, как раз когда корабли Гёзов по распоряжению Долговязого вышли в открытое море.
Долговязый сидел в Эмдене уже около трех месяцев и отчаянно скучал. Он все ходил, точно медведь на цепи, с корабля на сушу, с суши на корабль.
Бродя по набережной, Уленшпигель и Ламме повстречали некоего сеньора с добродушным лицом, от скуки выковыривавшего копьем булыжник. Хотя усилия его были по видимости тщетны, он все же не оставлял намерения довести дело до конца. А в это время сзади него собака грызла кость.
Уленшпигель подошел к собаке и сделал вид, что хочет отнять у нее кость. Собака заворчала. Уленшпигель не унялся. Собака громко залаяла.
Обернувшись на шум, сеньор спросил Уленшпигеля:
— Чего ты пристаешь к собаке?
— А чего вы, мессир, пристаете к мостовой?
— Это не одно и то же, — отвечал сеньор.
— Разница не велика, — возразил Уленшпигель. — Собака держится за кость и не отдает ее, но ведь и булыжник держится за набережную и не желает с ней расставаться. Уж если такие люди, как вы, затевают возню с мостовой, то таким людям, как мы, не грешно затеять возню с собакой.
Ламме прятался за спину Уленшпигеля и в разговор не вступал.
— Ты кто таков? — осведомился сеньор.
— Я Тиль Уленшпигель, сын Клааса, умершего на костре за веру.
И тут он запел жаворонком, а сеньор закричал петухом.
— Я адмирал Долговязый, — сказал он. — Чего тебе от меня нужно?
Уленшпигель поведал ему свои приключения и передал пятьсот каролю.
— А кто этот толстяк? — показав пальцем на Ламме, спросил Долговязый.
— Мой друг-приятель, — отвечал Уленшпигель. — Он, как и я, хочет спеть на твоем корабле мощным голосом аркебузы песнь освобождения родного края.
— Вы оба молодцы, — рассудил Долговязый. — Я возьму вас на свой корабль.
Это было в феврале; дул пронизывающий ветер, мороз крепчал. Наконец, проведя еще три недели в томительном ожидании, Долговязый, доведенный до исступления, покинул Эмден. Выйдя из Фли, он взял курс на Тессель, но затем вынужден был повернуть на Виринген, и тут его корабль затерло льдами.
Скоро глазам его представилось веселое зрелище: катанье на санках, катанье на коньках; конькобежцы-юноши были одеты в бархат; на девушках были кофты и юбки, у кого — шитые золотом, у кого — отделанные бисером, у кого — с красной, у кого — с голубой оборкой. Юноши и девушки носились взад и вперед, скользили, шутили, катались гуськом, парочками, пели про любовь, забегали выпить и закусить в украшенные флагами лавочки, где торговали водкой, апельсинами, фигами, peperkoek’ами, schol’ями[56], яйцами, вареными овощами, heetekoek’ами, то есть оладьями, и винегретом, а вокруг под полозьями санок и салазок поскрипывал лед.
Ламме в поисках жены по примеру всего этого веселого люда тоже катался на коньках, но то и дело падал.
Уленшпигель между тем захаживал утолять голод и жажду в дешевенькую таверну на набережной и там не без приятности беседовал со старой baesine.
Как-то в воскресенье около девяти часов он зашел туда пообедать.
— Однако, помолодевшая хозяйка, — сказал он смазливой бабенке, подошедшей услужить ему, — куда девались твои морщины? Зубы у тебя белые, молодые и все до одного целы, а губы красные, как вишни. А эта ласковая и лукавая улыбка предназначается мне?
— Как бы не так! — отвечала она. — Чего подать?
— Тебя, — сказал Уленшпигель.
— Пожалуй, слишком жирно будет для такого одра, как ты, — отрезала бабенка. — Не желаешь ли какого-нибудь другого мяса?
Уленшпигель молчал.
— А куда ты девал красивого парня, статного, полного, который всюду ходил с тобой? — спросила бабенка.
— Ламме? — спросил Уленшпигель.
— Куда ты его девал? — повторила она.
Уленшпигель же ей на это ответил так:
— Он ест в лавчонках крутые яйца, копченых угрей, соленую рыбу, zuurtje[57], — словом, все, что только можно разгрызть, а ходит он туда в надежде встретить жену. Ах, зачем ты не моя жена, красотка! Хочешь пятьдесят флоринов? Хочешь золотое ожерелье?
Но красотка перекрестилась.
— Меня нельзя ни купить, ни взять насильно, — сказала она.
— Ты никого не любишь? — спросил Уленшпигель.
— Я люблю тебя как своего ближнего. Но больше всего я люблю господа нашего Иисуса Христа и пресвятую деву, которые велят мне блюсти мою женскую честь. Это трудно и тяжко, но господь помогает нам, бедным женщинам. Впрочем, иные все же поддаются искушению. А что твой толстый друг — весельчак?
— Он весел, когда ест, печален, когда голоден, и вечно о чем-то мечтает, — отвечал Уленшпигель. — А у тебя какой нрав — жизнерадостный или же унылый?
— Мы, женщины, рабыни нашей госпожи, — отвечала она.
— Какой госпожи? Причуды? — спросил Уленшпигель.
— Да, — отвечала она.
— Я пришлю к тебе Ламме.
— Не надо, — сказала она. — Он будет плакать, и я тоже.
— Ты когда-нибудь видела его жену? — спросил Уленшпигель.
— Она грешила с ним, и на нее наложена суровая епитимья, — вздохнув, сказала она. — Ей известно, что он уходит в море ради того, чтобы восторжествовала ересь, — каково это ее христианской душе? Защищай его, если на него нападут; ухаживай за ним, если его ранят, — это просила тебе передать его жена.
— Ламме мне друг и брат, — молвил Уленшпигель.
— Ах! — воскликнула она. — Ну, что бы вам вернуться в лоно нашей матери — святой церкви!
— Она пожирает своих детей, — сказал Уленшпигель и вышел.
Однажды, мартовским утром, когда бушевал ветер и лед сковывал реку, преграждая путь кораблю Гильома, моряки и солдаты развлекались и забавлялись катаньем на салазках и на коньках.
Уленшпигель в это время был в таверне, и смазливая бабенка, чем-то расстроенная, словно бы не в себе, неожиданно воскликнула:
— Бедный Ламме! Бедный Уленшпигель!
— Чего ты нас оплакиваешь? — спросил он.
— Беда мне с вами! — продолжала она. — Ну, почему вы не веруете в таинство причащения? Тогда вы бы уж наверно попали в рай, да и в этой жизни я могла бы содействовать вашему спасению.
Видя, что она отошла к двери и насторожилась, Уленшпигель спросил:
— Ты хочешь услышать, как падает снег?
— Нет, — отвечала она.
— Ты прислушиваешься к вою ветра?
— Нет, — отвечала она.
— Слушаешь, как гуляют в соседней таверне отважные наши моряки?
— Смерть подкрадывается неслышно, как вор, — сказала она.
— Смерть? — переспросил Уленшпигель. — Я не понимаю, о чем ты говоришь. Подойди ко мне и скажи толком.
— Они там! — сказала она.
— Кто они?
— Кто они? — повторила она. — Солдаты Симонсена Роля — они кинутся на вас с именем герцога на устах. Вас кормят здесь на убой, как быков. Ах, зачем я так поздно об этом узнала! — воскликнула она и залилась слезами.
— Не плачь и не кричи, — сказал Уленшпигель. — Побудь здесь.
— Не выдай меня! — сказала она.
Уленшпигель обегал все лавочки и таверны.
— Испанцы подходят! — шептал он на ухо морякам и солдатам.
Все бросились на корабль и, в мгновенье ока изготовившись к бою, стали ждать неприятеля.
— Погляди на набережную, — обратился к Ламме Уленшпигель. — Видишь, там стоит смазливая бабенка в черном платье с красной оборкой и надвигает на лоб белый капор?