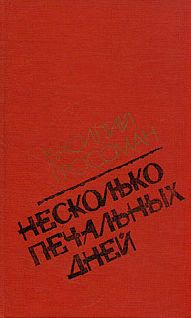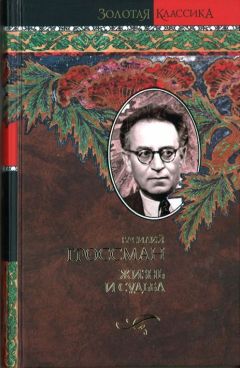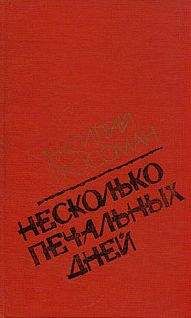– Нет у нас такой, – на разные голоса сказали жильцы и жилицы.
А водитель Жучков, тесня к двери почтальоншу, сказал:
– Нет такой и не было.
И тогда Светлана Колотыркина неожиданно сказала ему:
– Как же ее не было, когда вы в ее комнате живете.
И все вдруг вспомнили Анну Борисовну Ломову и удивились, как начисто забыли о ней.
Посоветовавшись, жильцы вскрыли конверт и прочли вслух отпечатанную на пишущей машинке бумагу.
«В связи со вновь открывшимися обстоятельствами решением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 8/5 1960 года Ваш муж Ардашелия Терентий Георгиевич, умерший в заключении 6/7 1937 года, посмертно реабилитирован, а приговор, вынесенный Военной коллегией Верховного Суда от 3/9 1937 года, отменен и дело за отсутствием состава преступления прекращено».
Вероятно, имелся в виду 1936 год, описка автора. (Прим. составителя.)
– Куда теперь эту бумагу?
– А куда ее, никуда. Обратно отослать.
– Я считаю, мы обязаны ее в домоуправление сдать, поскольку эта женщина имела здесь постоянную прописку.
– Вот это правильно. Но сегодня у них в домоуправлении выходной.
– А куда особенно спешить.
– Давайте ее мне. Я зайду насчет неисправности кранов и заодно ее сдам.
Потом все некоторое время молчали, а затем мужской голос произнес:
– Чего же это мы сидим. Кому сдавать?
– Кто остался, тому и сдавать.
1960
Победоносные войска Советской Армия, разбив и уничтожив армию фашистской Германии, вывезли в Москву картины Дрезденской галереи. В Москве картины хранились взаперти около десяти лет.
Весной 1955 года Советское правительство решило вернуть картины в Дрезден. Перед тем как отправить картины обратно в Германию, было решено открыть девяностодневный доступ к ним.
И вот холодным утром 30 мая 1955 года, пройдя по Волхонке мимо кордонов московской милиции, регулировавшей движение тысячных народных толп, желавших видеть картины великих художников, я вошел в Музей имени Пушкина, поднялся на второй этаж и подошел к Сикстинской Мадонне.
При первом взгляде на картину сразу, и прежде всего, становится очевидно – она бессмертна.
Я понял, что до того, как увидел Сикстинскую Мадонну, легкомысленно пользовался ужасным по мощи словом – бессмертие – смешивал могучую жизнь некоторых особо великих произведений человека с бессмертием. И полный преклонения перед Рембрандтом, Бетховеном, Толстым, я понял, что из всего созданного кистью, резцом, пером и поразившего мое сердце и ум – одна лишь эта картина Рафаэля не умрет до тех пор, пока живы люди. Но может быть, если умрут люди, иные существа, которые останутся вместо них на земле – волки, крысы и медведи, ласточки – будут приходить и прилетать и смотреть на Мадонну…
На эту картину глядели двенадцать человеческих поколений – пятая часть людского рода, прошедшего по земле от начала летоисчисления до наших дней.
На нее глядели нищие старухи, императоры Европы и студенты, заокеанские миллиардеры, папы и русские князья, на нее глядели чистые девственницы и проститутки, полковники генерального штаба, воры, гении, ткачи, пилоты бомбардировочной авиации, школьные учителя, на нее глядели злые и добрые.
За время существования этой картины создавались и рушились европейские и колониальные империи, возник американский народ, заводы Питсбурга и Детройта, происходили революции, менялся мировой общественный уклад… За это время человечество оставило за спиной суеверия алхимиков, ручные прялки, парусные суда и почтовые тарантасы, мушкеты и алебарды, шагнуло в век генераторов, электромоторов и турбин, шагнуло в век атомных реакторов и термоядерных реакций. За это время, формируя познание Вселенной, Галилей написал свой «Диалог», Ньютон «Начала», Эйнштейн «К электродинамике движущихся тел». За это время углубили душу и украсили жизнь: Рембрандт, Гете, Бетховен, Достоевский и Толстой.
Я увидел молодую мать, держащую на руках ребенка.
Как передать прелесть тоненькой, худенькой яблони, родившей первое тяжелое, белолицее яблоко; молодой птицы, выведшей первых птенцов; молодой матери косули… Материнство и беспомощность девочки, почти ребенка.
Эту прелесть после Сикстинской Мадонны нельзя назвать непередаваемой, таинственной.
Рафаэль в своей Мадонне разгласил тайну материнской красоты. Но не в этом неиссякаемая жизнь картины Рафаэля. Она в том, что тело и лицо молодой женщины есть ее душа, – потому так прекрасна Мадонна. В этом зрительном изображении материнской души кое-что недоступно сознанию человека.
Мы знаем о термоядерных реакциях, при которых материя обращается в могучее количество энергии, но мы сегодня не можем еще представить себе иного, обратного процесса – материализации энергии, а здесь духовная сила, материнство, кристаллизуется, обращено в кроткую Мадонну.
Красота Мадонны прочно связана с земной жизнью. Она демократична, человечна; она присуща массам людей – желтолицым, косоглазым, горбуньям с длинными бледными носами, чернолицым, с курчавыми волосами и толстыми губами, она всечеловечна. Она душа и зеркало человеческое, и все, кто глядят на Мадонну, видят в ней человеческое, – она образ материнской души, и потому красота ее навечно сплетена, слита с той красотой, что таится, неистребимо и глубоко, всюду, где рождается и существует жизнь, – в подвалах, на чердаках, в дворцах, в ямах.
Мне кажется, что эта Мадонна самое атеистическое выражение жизни, человеческого без участия божества.
Мне мгновеньями казалось, что Мадонна выразила не только человеческое, но и то, что существует в самых широких кругах земной жизни, в мире животных, всюду, где в карих глазах кормящей лошади, коровы, собаки можно угадать, увидеть дивную тень Мадонны.
Еще более земным представляется мне ребенок у нее на руках. Лицо его кажется взрослее, чем лицо матери.
Таким печальным и серьезным взором, устремленным одновременно и вперед и внутрь себя, можно познавать, видеть судьбу.
Их лица тихи и печальны. Может быть, они видят Голгофский холм, и пыльную, каменистую дорогу к нему, и безобразный, короткий, тяжелый, неотесанный крест, который ляжет на это плечико, ощущающее сейчас тепло материнской груди…
А сердце сжимается не тревогой, не болью. Какое-то новое, никогда не испытанное чувство – оно человечно, и оно ново, точно вынырнуло из соленой и горькой морской глубины, пришло, и сердце забилось от его необычности и новизны.
И в этом еще одна особенность картины.
Она рождает новое, словно к семи цветам спектра прибавляется неизвестный глазу восьмой цвет.
Почему нет страха в лице матери и пальцы ее не сплелись вокруг тела сына с такой силой, чтобы смерть не смогла разжать их, почему она не хочет отнять сына у судьбы?
Она протягивает ребенка навстречу судьбе, не прячет свое дитя.
И мальчик не прячет лица на груди у матери. Вот, вот он сойдет с ее рук и пойдет навстречу судьбе своими босыми ножками.
Как объяснить это, как понять?
Они одно, и они порознь. Вместе видят они, чувствуют и думают, слиты, но все говорит о том, что они отделятся один от другого, – не могут не отделиться, что суть их общности, их слитности в том, что они отделятся один от другого.
Бывают горькие и тяжелые минуты, когда именно дети поражают взрослых разумностью, спокойствием, примиренностью. Проявляли их и крестьянские дети, погибавшие в голодный, неурожайный год, дети еврейских лавочников и ремесленников во время кишиневского погрома, дети шахтеров, когда вой шахтной сирены возвещал обезумевшему поселку о подземном взрыве.
Человеческое в человеке встречает свою судьбу, и для каждой эпохи эта судьба особая, отличная от той, что была в предыдущую эпоху. Общее в этой судьбе то, что она постоянно тяжела…
Но человеческое в человеке продолжало существовать, когда его распинали на крестах и мучили в тюрьмах.
Оно жило в каменоломнях, в пятидесятиградусные морозы на таежных лесозаготовках, в залитых водой окопах под Перемышлем и Верденом. Оно жило в монотонном существовании служащих, в нищете прачек, уборщиц, в их иссушающей и тщетной борьбе с нуждой, в безрадостном труде фабричных работниц.
Мадонна с младенцем на руках – человеческое в человеке – в этом ее бессмертие.
Наша эпоха, глядя на Сикстинскую Мадонну, угадывает в ней свою судьбу. Каждая эпоха вглядывается в эту женщину с ребенком на руках, и нежное, трогательное и горестное братство возникает между людьми разных поколений, народов, рас, веков. Человек осознает себя, свой крест и вдруг понимает дивную связь времен, связь с живущим сегодня, всего, что было и отжило, и всего, что будет.
После уж, когда я шел по улице, пораженный и смущенный мощью внезапного впечатления, я не старался разобраться в смешении своих чувств, мыслей.