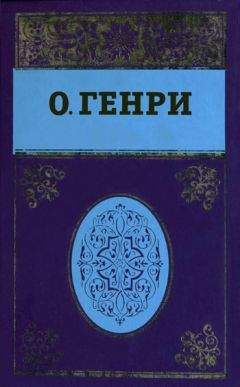Бродяга засмеялся.
— Нет, вы ошибаетесь, — сказал он. — Когда я увидел вас вчера, вы выходили из редакции. Мне нравятся такие люди, как вы. Вы и даете и берете. Я уже торчу три месяца здесь, в Хаустоне, и знаете, вы первый человек, которому я рассказал о себе. Вы не стали предлагать мне денег и в результате мое уважение к вам значительно возросло. Я — бродяга, верно, но я никогда не принимаю денег от кого бы то ни было. Для чего это мне? Даже самый богатый человек в вашем городе — бедняк по сравнению со мной. Я вижу, вы улыбаетесь. Иногда меня обуревает «cacoelhes loguent», по-латыни — «приступ красноречия», но редко встречаешь джентльмена, который готов тебя выслушать.
Репортеру «Пост» приходилось видеть множество людей, поистертых жизнью, множество таких, которые говорят и делают то, что от них и ожидают, но ему вдруг захотелось послушать этого человека, который говорил такое, чего от него не ожидали. Да и больно у него живописный наряд.
Бродяга не был пьян, его внешность совсем не говорила о том, что он человек пьющий. У него были благородные черты лица, четко очерченные при лунном свете, а голос, голос был какой-то странный. Казалось, что он разговаривает во сне.
Газетчик сделал вывод, что у бродяги несколько расстроенная психика.
Тот заговорил снова.
— Я сказал, что у меня много денег, — продолжал он, — и они на самом деле у меня есть. Я покажу вам несколько, совсем немного, чудес, о существовании которых такие, как вы, респектабельные, выполняющие трудную работу, хорошо одетые люди, не имеют никакого представления. Вот посмотрите на этот перстень.
Он стащил с пальца перстень из кованой меди с замысловатой резьбой, сложный узор нельзя было разглядеть при слабом лунном свете, и протянул его репортеру.
— Вот, трижды потрите его большим пальцем левой руки, — сказал бродяга.
Репортер выполнил его просьбу, чувствуя, что это действие вызывает у него улыбку. Глаза бродяги заблестели, и он, ткнув пальцем в небо, стал водить им, словно следуя за передвижениями какого-то невидимого предмета.
— Это — Артамела, — сказал он, — раб, раб, повинующийся этому перстню. На, лови!
Он взмахнул рукой вверх, что-то ею там перехватил и показал репортеру.
— Вот видите? — сказал он торжествующе. — Золотые монеты. Я могу по своему желанию доставать их сколько душе угодно. Ну, для чего же мне попрошайничать, скажите?
Он протягивал свою ладонь, в которой ничего не было, а репортер притворялся что видит то, что на ней якобы лежит.
Бродяга снял шляпу, подставляя под свежий ветерок свои спутанные волосы.
— Что вы скажете, если я стану утверждать вот здесь перед вами, что мне — двести сорок один год?
— Сбросьте пару столетий и попадете тютелька в тютельку, — ответил репортер.
— Этот перстень, — продолжал бродяга, — мне подарил один буддистский священнослужитель в Бенаресе, в Индии, за сто лет до открытия Америки. Он — неисчерпаемый источник богатства, жизни и везения. Он подарил мне столько благодеяний, сколько не имел в своей жизни ни один живущий человек. С таким состоянием, которое он мне дает, кому могу я завидовать? Да ни одному человеку на земле. Я купаюсь в блаженстве, я так счастлив, что веду такую идеальную жизнь.
Бродяга, опершись на перила, долго молча глядел на реку. Репортер уже собирался было уйти, как тот вдруг резко повернулся, сильно вздрогнув. Он сразу изменился. Голова у него поникла, а в надменных и высокомерных манерах проявилось низкопоклонство. Он весь дрожал, кутаясь в свой ветхий сюртук.
— Что это я тут болтал? — сказал он грубым, глухим голосом. — О чем же я говорил? Эй, мистер, привет, не дадите ли человеку дайм, чтобы он купил себе что-нибудь на ужин?
Репортер, удивленный такой скорой трансформацией, молча взирал на него.
Бродяга что-то бормотал про себя, а потом дрожащими руками вытащил какой-то сверток из газеты.
Он развернул его, что-то взял из него большим и указательным пальцами и отправил щепотку в рот.
Слабый сладковатый липкий запах жевательного опия ударил в ноздри репортеру.
Так открылась тайна этого бродяги.
Хаустонский роман{53}
(Перевод Л. Каневского)
Около двух лет назад из Хаустона самым таинственным образом исчез один из самых ярких, самых известных представителей высшего общества. Несколько лет он был законодателем моды, ее зерцалом, моделью для «Магнолия-Сити». Особенно славился он умением выбирать для себя самую утонченную, сверхмодную одежду, «последний писк», все считали его лидером среди тех, кто создавал современный, самый яркий, самый подобающий стиль в одежде.
Ни один человек в Хаустоне никогда не видел ни малейшей складки на его элегантном, блестяще подогнанном по фигуре костюме, и никто никогда не видел ни малейшего пятнышка на его белоснежных рубашках.
У него было достаточно средств, позволяющих ему посвящать всего себя целиком светской жизни, искусству одеваться, а все его поведение и безукоризненные манеры ставили его на одну доску со знаменитым красавчиком Бруммелем.
Но вот год назад многие стали замечать, что он становился все более чем-то озабоченным, все более задумчивым, его непринужденные, галантные манеры оставались такими же, как и прежде, как у истинного Честерфильда, но он выглядел более молчаливым, мрачным, казалось, что его что-то гнетет. Вдруг, ни с кем не попрощавшись, он исчез без следа.
На его банковском счету оставалось много денег, все высшее общество ломало себе голову над тем, чем же было вызвано его таинственное внезапное исчезновение.
В Хаустоне у него не было никаких родственников, ну а проявляя вошедшее в поговорку непостоянство, все его знакомые и легкомысленные друзья, бабочки-однодневки, очень скоро позабыли о нем.
* * *
Наконец волновавшая многих тайна прояснилась. Один Хаустонский торговец, близкий друг светского молодого человека, решил в сентябре совершить путешествие в Европу.
Во время пребывания в Италии он захотел посетить один из старинных монастырей в Альпах; в один прекрасный день он стал взбираться вверх по Пассо-ди-Сан-Джакомо дорогой, которая была нисколько не шире тропинки для мулов. Она вела к ледникам Леопонтийских Альп и заканчивалась прямо-таки в поднебесье, на высоте семь тысяч футов. Еще выше, на заснеженной скале, торговец увидал примостившийся на ней монастырь францисканцев, миноритов (меньших братьев), членов одного из подразделений — группы Чисмонатана, католического монашеского ордена францисканцев.
Он со всеми предосторожностями взбирался по узкой дорожке, то и дело останавливаясь, чтобы полюбоваться яркими цветами переброшенной через небо радуги от холодных ледников или быстрыми сходами снежных лавин в ущельях, высоко над головой.
Целых шесть часов длился этот трудный подъем, и вот наконец он достиг цели. Он стоял перед массивными железными воротами монастыря. Хаустонец дернул за веревку колокола — мрачного вида страж кивком головы пригласил его войти и воспользоваться гостеприимством братьев. Его проводили в просторный, плохо освещенный зал, стены и полы в котором были выложены из холодного серого камня. Впустивший его монах снова кивком головы попросил его подождать, покуда монахи не разойдутся по своим кельям после вечерней молитвы. Раздался глухой удар колокола, большие двери неслышно распахнулись, и процессия хорошо выбритых монахов беззвучно прошествовала в кельи. Они шли, низко наклонив голову, перебирая четки, с их шевелящихся губ слетала неслышная молитва.
Когда шествие проходило мимо него, посетитель был просто ошарашен, вдруг увидев среди благочестивых монахов того, кто когда-то был всеобщим любимцем и образцом элегантности в Хаустоне.
* * *
Он громко окликнул его, назвав по имени, монах, вздрогнув от его голоса, поднял голову и, увидав торговца, вышел из строя своих молящихся на ходу братьев. Остальные продолжили свое молчаливое шествие, и вскоре за последним из них затворилась большая дверь.
Хаустонец с любопытством взирал на новоиспеченного монаха.
На нем была длинная черная сутана, подпоясанная на талии пеньковой веревкой и своими классическими ниспадающими складками доходившая ему до пят. Волосы на голове были выбриты кружком, а лицо выглядело гладким, как у девицы. Но больше всего торговца поразило выражение полного умиротворения, покоя и счастья на нем. А во взгляде не было прежней тревоги и озабоченности, которые замечали его друзья перед тем, как он исчез.
Казалось, что тихая, святая красота струилась с его лица, становясь благословением.
— Во имя Господа, — спросил его друг, — что же заставило тебя похоронить себя заживо здесь, вдали от мира, почему ты бросил друзей, оставил все удовольствия, чтобы провести все свои дни в этом ужасном месте?