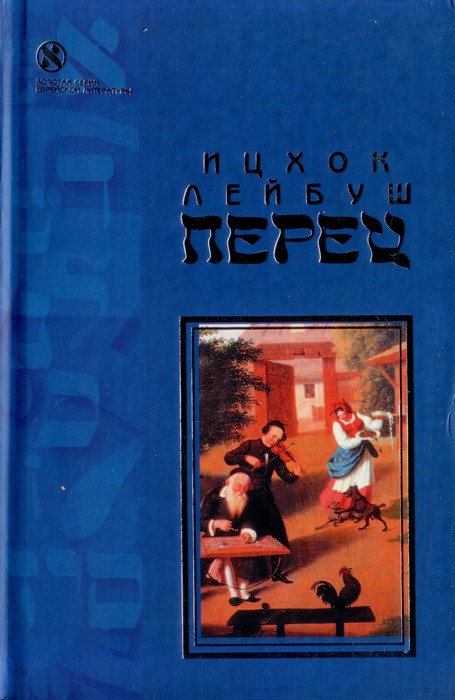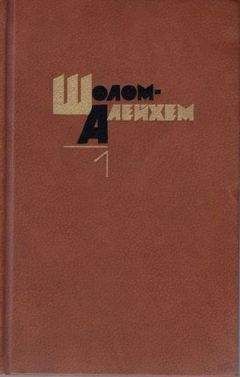class="p">Замужество
(Рассказ еврейки)
помню то время, когда я играла в камешки и летом пекла на дворе булки из глины. Зимой я по целым дням просиживала у колыбели своего больного братишки, который родился хилым и, проболев до семи лет, умер от поветрия.
Летом этот несчастный ребенок до самого вечера сидел на дворе, греясь на солнышке, и следил за тем, как я играю в камешки.
Зимой он не покидал колыбели, а я рассказывала ему сказки и напевала песенки. Остальные братья уходили в хедер.
Мать бывала занята по целым дням. Бедная мать, сколько у нее было профессий! Она была торговкой, пекла пряники, ходила на свадьбы и на обрезания, наблюдала за обрядом омовения в микве, совершала «обмер могил» [20] была начетчицей в синагоге и, сверх всего, закупала провизию для зажиточных хозяек.
Отец за три рубля в неделю служил писцом на лесной даче у реб Занвиля Теркельбаума. То были еще счастливые времена: меламедам было уплачено, за квартиру платили почти исправно, не было недостатка в куске хлеба.
Иногда мать стряпала к ужину похлебку. Тогда в доме бывал настоящий праздник. Но это случалось редко.
Мать большей частью возвращалась домой поздно, усталая, нередко злая и заплаканная. Она жаловалась, что хозяйки не платят ей долгов. Сперва велят затрачивать свои деньги, потом предлагают прийти завтра, послезавтра. Тем временем делаются новые покупки, а доходит до расчета, хозяйка «не помнит», уплатила ли она третьего дня за осьмушку масла, до поры до времени масла не засчитывают. Надо спросить у мужа, который был при этом, — у него «железная» память, и он наверное помнит счет. Назавтра оказывается, что муж поздно вернулся из синагоги, и что хозяйка забыла спросить его; на третий день она с торжеством заявляет, что спросила у мужа, но он рассердился на нее за то, что она пристает к нему с пустяками. «Только ему и дел, что прислушиваться к бабским счетам!» И остается, что она сама вспомнит.
Потом ей начинает казаться, почти наверняка, что она осьмушку масла засчитала, и в конце концов она готова поклясться в этом. И когда бедная мать решается еще раз напомнить о масле, это называют нахальством, говорят ей, что она выдумывает, хочет выманить несколько копеек. Ее предупреждают, что если она еще раз заикнется о масле, то пусть лучше на глаза не показывается.
Мать моя, родом из богатого дома, сама теперь была бы хозяйкой наравне с другими, не отними у нее помещик приданого, и потому с трудом сносила все это. Она приходила домой с опухшими от слез глазами, с рыданиями бросалась на кровать и долго лежала так, пока не выплачет свое горе. Потом вставала и варила нам клецки с бобами.
Часто она вымещала свой гнев на нас, то есть больше всего на мне. Больного Береля она никогда не бранила, братьев, учившихся в хедере, бранила очень редко: они, бедные, и без того приходили с синяками на щеках от щипков и подбитыми глазами. Зато меня она часто, бывало, рванет за косу или даст пинка. «Руки бы у тебя отсохли, если б ты развела огонь и согрела горшок воды?» Когда же я делала это — мне доставалось еще больше: «Смотри на нее, как расхозяйничалась! Огонь развела, лишь бы зря дрова палить. Конечно, какое ей дело до того, что мне приходится надрываться! Нищей она меня сделает!»
Нередко за глаза доставалось и отцу. Мать садилась на кровать лицом к окну и, устремив свой взгляд в пространство, тяжело вздыхала. «Ему и горя мало! Он сидит себе там в лесу, как граф, дышит свежим воздухом, валяется на траве, жрет простоквашу, а может быть, даже сметану — я знаю? А у меня живот подводит».
Тем не менее это было еще хорошее время. Голодать не приходилось, и после недели, полной самыми разнообразными мелкими неприятностями, наступала веселая или, по крайней мере, спокойная суббота. Отец нередко приходил к субботе домой, а мать суетилась, заглядывала во все уголки и втихомолку улыбалась.
Часто по пятницам, на исходе дня, перед тем, как помолиться над свечами, она целовала меня в голову, и я понимала сокровенный смысл этого. Когда же случалось, что отец не приходил на субботу, мать ругала меня ведьмой, вырывала гребешком чуть ли не половину волос и вдобавок награждала несколькими пинками. Но я не плакала. Сердце дочери чувствовало, что мать проклинает не меня, а свою горькую долю!
Потом вырубили лес, отец вернулся домой, и в доме стал чувствоваться недостаток в куске хлеба На самом деле нужда коснулась только отца, матери и меня, на остальных детях она мало отразилась. Больному братишке почти ничего и не нужно было, — он хлебнет, бывало, немного супа, если ему подадут, и снова уставится в потолок. Другие дети, ходят, бедняжки, в хедер, и им необходимо дать поесть чего-нибудь горячего. Только мне довольно часто приходилось голодать.
Отец и мать постоянно со слезами на глазах вспоминали прежнее время, я же, наоборот, в тяжелое время чувствовала себя гораздо лучше. С тех пор, как в доме воцарилась нужда, мать полюбила меня гораздо сильнее.
Теперь, возвращаясь домой, она не драла меня за волосы, и на мое тощее тело не сыпались удары. За обедом отец гладил меня по голове и старался отвлечь мое внимание от того, что меня обделяют, а я гордилась, что теперь, когда надо поститься, я пощусь наравне с отцом и матерью, и считала себя взрослой девицей.
Тем временем умер мой больной братишка.
Случилось это так: однажды мать проснулась и сказала отцу. «Знаешь, Берелю, должно быть, лучше, он спал всю ночь и ни разу не разбудил меня».
Я услышала эти слова — сон у меня всегда был чуткий, с радостью спрыгнула с сундука, на котором спала, и побежала посмотреть на своего «единственного братишку» (я очень любила его и всегда так называла). Я надеялась увидать улыбку на изможденном личике, ту улыбку, которая так редко появлялась на нем… Я нашла труп. Пришлось сидеть шивэ [21]. Потом заболел отец, и к нам стал захаживать фельдшер…
Пока мы могли платить, кое-как сводя концы с концами, заходил он сам, когда же на лечение ушли последние подушки, висячая лампа и священные книги отца, до которых мать долгое время не позволяла дотрагиваться, фельдшер стал посылать своего подручного.
Подручный очень не нравился матери: носит закрученные усики, одевается по-новомодному и, кроме того, ежеминутно