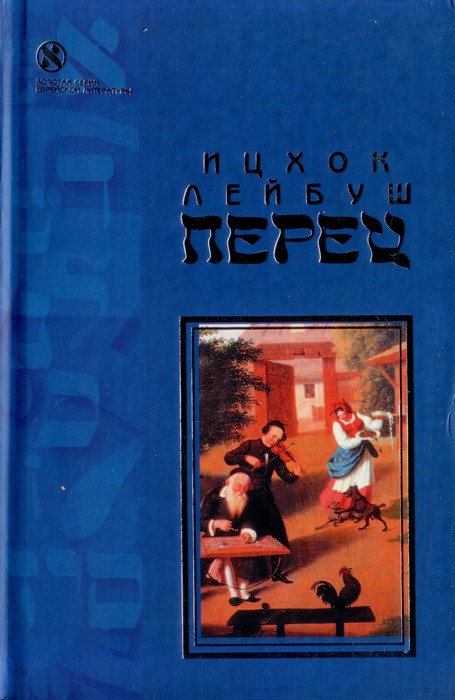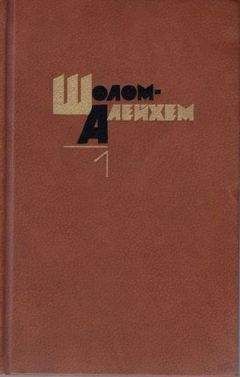вставляет польские слова.
Я боялась его, до сих пор не знаю почему, и каждый раз, когда он должен был прийти, я убегала на двор и там ждала, пока он уйдет.
Однажды заболел один из наших соседей, тоже бедняк и, по-видимому, так же, как и мы, успевший распродать весь домашний скарб, — и «подручный» фельдшера (я до сих пор не знаю, как: его звали) из нашего дома направился в дом соседа. Проходя по двору, он застал меня сидящей на бревне. Я опустила глаза. Чувствуя его приближение, я вся похолодела и слышала, как сердце мое стало учащенно биться.
Он подошел ко мне, взял за подбородок, поднял мою голову и сказал простым еврейским языком;
— Такая красивая девушка, как ты, не должна быть неряшливой и не должна стесняться молодого человека!
Он отпустил меня, и я убежала в дом. Я чувствовала, что вся кровь прилила к моему лицу, и забилась в темный угол за печкой, под предлогом, будто хочу сосчитать грязное белье. Это было в среду.
В пятницу я первый раз в жизни, сама напомнила матери, что я выгляжу неряшливо, и что мне надо вымыть голову.
Мать заломила руки:
— Боже мой, ведь уж три недели, как я не чесала ее.
Но внезапно она пришла в ярость.
— Ведьма! — закричала она. — Такая здоровенная девка и не может сама позаботиться о себе! Другая на твоем месте обмывала бы еще других детей.
— Не кричи, Сореле! — взмолился отец. Но гнев матери становился все сильнее и сильнее.
— Ведьма, слышишь ты? Сейчас же вымой голову, сию же минуту! Слышишь?
Я боялась подойти к печке, где стояла горячая вода, так как, проходя мимо матери, я могла получить пинка. Спас меня по обыкновению отец.
— Не кричи, Сореле, — застонал он, — у меня и так голова болит!..
Этого было вполне достаточно. Гнев матери как рукой сняло… Я свободно прошла через всю комнату и приблизилась к горшку с водой.
Я неуклюже моюсь и вижу, как мать подходит к отцу и, тяжело вздыхая, указываешь на меня.
— Боже милостивый! — тихо обращается она к отцу, но мое ухо улавливает каждое слово. — Она растет, бедняжка, как на дрожжах, сияет, как золото… а что из того?
Отец отвечает еще более тяжким вздохом.
Фельдшер неоднократно говорил отцу, что он не так плох. От огорчений у него сделалась болезнь печени, она опухла и давит на сердце, — и только всего! Главное, ему надо пить молоко, избегать неприятностей, почаще уходить из дому, встречаться с людьми и вообще найти себе какое-нибудь дело.
Но отец жаловался, что ноги перестали ему служить. Отчего — об этом я узнала позже.
Однажды летом на рассвете меня разбудил разговор между отцом и матерью.
— Ты, бедный мой, должно быть, много ходил, когда служил в лесу.
— Еще бы, — отвечает отец, — в лесу сразу рубили в двадцати местах. Видишь ли, лес принадлежит помещику, а мужики владеют сервитутами: им принадлежит хворост и бурелом. Когда вырубают лес, они теряют сервитуты и должны покупать строевой лес и дрова на топливо. Конечно, они захотели наложить запрет и обратились к комиссару. Но спохватились они слишком поздно. Как только реб Занвиль увидел, что они почесывают затылки, он сейчас же распорядился поставить еще сорок дровосеков. Лес превратился в настоящий ад, рубили, может быть, в двадцати местах. Повсюду надо было поспевать… Что ты думаешь? Ноги распухали у меня, как бревна.
— Как человек грешит! — вздохнула мать. — А я думала, что тебе там нечего делать…
— Как бы не так! — горько улыбнулся отец. — Всего только с самого рассвета до поздней ночи на ногах!
— И все за три рубля в неделю!
— Он обещал прибавить… Тем временем, ты ведь знаешь, затонули его плоты, и он стал жаловаться, что совсем разорился.
— А ты ему так и поверил?
— Возможно…
— Вечно, — ворчит мать, — он разоряется, а между тем его состояние все растет и растет.
Наступило короткое молчание.
— Ты не знаешь, чем он теперь промышляет? — спрашивает отец, который уже почти год как не выходил из дому.
— Чем он может промышлять? Он торгует льном, яйцами, кабак открыл…
— А она что делает?
— Она, бедная, больна…
— Жалко, хорошая женщина.
— Бриллиант! Единственная хозяйка, которая не захочет чужого гроша. Она и платила бы вовремя, если бы сама что-нибудь значила у него.
— Кажется, — говорит отец, — это у него уже третья жена?
— Ну да!
— Видишь, Соре, вот тебе уже богатый еврей… и у него нет счастья в женитьбе… у каждого свое горе.
— И такая молодая! — вставляет мать. — Всего двадцать с чем-то лет.
— Ну, иди, знай! Ему наверное за семьдесят, — а такой крепкий.
— Еще бы — он еще щелкает орехи.
— И не носит очков.
— А его походка — пол дрожит под ним!
— А я, видишь, должен лежать в постели.
Меня бросило в жар при последних словах.
— Бог нам поможет, — утешает мать.
— Вот только она, она… — снова вздыхает мать и при этом бросает взгляд на сундук. — Она растет, не сглазить бы только, как на дрожжах… спереди-то… ты видел?..
— Еще бы!
— А лицо… сияет, как солнце…
После короткой паузы:
— Знаешь, Сореле, мы грешим перед Богом!
— Чем?
— А вот, дочкой. Сколько было тебе, когда ты вышла замуж?
— Я была моложе.
— Ну?..
— Ну… что?
В ту же минуту послышались два удара в ставню.
Мать вскочила с постели. В один миг она оборвала шнурок от ставней и распахнула окно, давным-давно лишенное задвижек.
— Что случилось? — крикнула она на улицу.
— Жена реб Занвиля скончалась.
Мать отпрянула от окна.
— Благословен праведный Судия! — промолвил отец… — Умереть ничего не стоит…
— Благословен праведный Судия! — повторила мать. — Только что говорили о ней…
* * *
Я переживала тогда очень беспокойное время. Сама не знаю, что со мной было.
Бывало, я не спала целыми ночами. В висках стучало, как молотками, сердце билось, точно пугалось чего-то, или чего-то желало непреодолимо; а другой раз на сердце становилось так тепло и отрадно, что хотелось все и всех обнимать, целовать, прижимать к себе.
Но кого? Братишки не давались, пятилетний Иойхонен упрямился и кричал, что не хочет играть с девчонкой. Мать… не говоря уже о том, что я боялась ее, вечно была сердита и полна забот… Отец — еще больше расхворался.
В короткое время он поседел, как лунь, лицо его покрылось морщинами, а глаза смотрели так беспомощно, с такой немой мольбой, что стоило мне взглянуть на него, чтобы я с плачем выбежала вон из комнаты.
Тогда я вспоминала своего