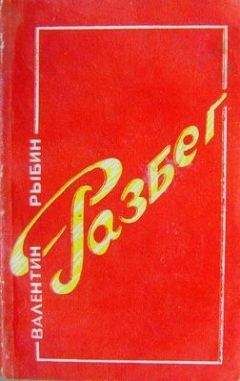— Товарышы! — погладив раскаленную на солнце лысину, обратился к дехканам Гулам-Али. — Разрышитэ поздравить вас с победой. Тэпэр земля у всех будыт — виноград-миноград, картошка, свекла — тоже хватыт. Тэпэр нам необходымо, чтобы дехкане пополняли ряды рабочего класса. Тэпэр мы открыли курсы. Хочешь быть кондуктором — иды к нам! Хочешь помощныком машиниста — давай! Хочешь слесарем — пожалста!
— Эй, Гулам-Али, ты куда тащишь от нас людей? — возмутился Артык. — Мы своих дехкан к земле зовем, а ты в свое депо их тянешь. Так не пойдет. Давай, товарищ Каюмов, закрывай собрание!
— Люди, еще один-два слова, а? — взмолился Гулам-Али и приложил руку к сердцу. — Товарышы, когда придете, спросите Гулам-Али! Это я!
— Ладно, заканчивайте, — сказал Ратх.
Вновь оркестр заиграл «Интернационал» и все встали.
На второй день утомительного пути по раскаленным пескам Аман с тремя добротрядовцами приехал на урочище Джунейд, где паслись отары Каюм-сердара. Приезжие вооружены, но бояться, кажется, некого — притихли басмачи. Одни приобщились к общему делу, другие ушли за кордон. Вывел Аман свою небольшую группу прямо к чабанскому кошу. Верблюдов пустили пастись. Лошадям спутали ноги, дали сена. Чабан Хезрет-кул и его подпасок в честь приезда сына Каюм-сердара зарезали овцу, поставили на огонь казан с мясом. Потом, когда залезли подальше от солнца, в чабанскую чатму, и сели на кошме к наполненным шурпой чашкам, Аман сказал:
— Ну, что, Хезрет-кул, тебе известно о земельно-водной реформе?
— Да, Аман-джан, слышали краем уха. — И подумав добавил: — Ну, вас-то эта репорм не коснется. Брат твой, слава аллаху, сумел хорошее место занять. Ему сам сатана не страшен. Другие ему завидуют. Недавно люди Джунаида ко мне сюда заглядывали, разговор вели о твоем младшем брате. Говорят: Ратх двадцать лет где-то на чужбине скитался, свою землю забыл, а как назад приехал — сразу большим человеком сделали. А мы, говорят, двадцать лет оберегаем свою землю, кровь за нее проливаем, и ни одного в правительство не поставили.
— Джунаидовские, говоришь, были? — насторожился Аман. — И где же они сейчас?
— Ай, крутятся где-то неподалеку. Узнают, что ты здесь — приедут.
— Хезрет-кул, нежелателен их приезд. Кровь может пролиться, — сказал Аман. И сидящие с ним «кошчинцы» подтянули винтовки к себе поближе.
— Сынок, что ты! — удивился чабаи. — Они твоего отца и тебя самыми надежными людьми считают. Говорят, слава аллаху, есть еще на свете надежные люди… господа Каюмовы.
— Не все мы господа, — возразил Аман. — Отца еще можно назвать так, — продолжал Аман, — но и то — какой он господин! Ни хан, ни бай. Так себе, бывший арчин… Ратх, сам знаешь… Ратх большевик. И я тоже теперь на большевистской платформе.
— Аман, сынок, что эта такое «платпорм»? — не понял чабан.
— Это значит, дорогой Хезрет-кул, что я всех своих коней подарил государственной конюшне, сам стал главным сейисом, и вдобавок к этому дружу с большевиками.
— А как на тебя смотрит отец? — удивился чабан. — Разве он тебе позволил жить с большевиками?
Гости смотрели то на Амана, то на чабана; с жадностью жевали баранину и ухмылялись: чего он рассусоливает с этим стариком? Аман понял их недоумевающие взгляды.
— Ну, ладно, Хезрет-кул, — сказал Аман строго. — В общем, мы приехали, чтобы сосчитать всех отцовских овец и передать их союзу «Кошчи». Эти люди примут у тебя всех овец, дадут мне за них расписку, а я отвезу ее в Полторацк. Считай, что овцы уже «кошчинские».
— Аман-джан! — испугался чабан. — А как же мы? Нас шесть чабанов при двух отарах. Куда же денемся мы?
— Старик, ты не беспокойся, — сказал один из «кошчинцев». — Если желаете — все останетесь при отарах. Только служить будете не Каюм-сердару, а союзу «Кошчи». Это выгодно. От Каюм-сердара вы пользовались только мясом. Даже зерна на лепешки он вам не присылал, сами добывали. А когда будете «кошчинцами», кроме мяса и зерна, получите еще одежду и деньги. Советская власть полностью обеспечит вас.
Чабан выслушал гостя, с недоумением посмотрел на Амана: правду ли говорит этот человек, или врет? Аман подтвердил — все правильно. Именно благодаря справедливости, и сам Аман принял Советскую власть.
— Ладно, — согласился Хезрет-кул, — нам все равно, лишь бы кормили и одевали. Говорите, что мне делать дальше?
— Ничего такого особенного, — сказал «кошчинен». — Сейчас немножко жара спадет и поедем считать овец.
Поели, попили чай, наговорились вдосталь. Часа за два до заката солнца вылезли из чатмы, пошли к лошадям, а их рядом не оказалось. Начали искать — вышли на барханы. Тут выскочили из засады человек двадцать в тельпеках, — кто с маузером, кто с обрезом, в связали «кошчинцев», бросили вниз лицом на песок.
Амана басмачи не тронули. Когда он кинулся бежать к чатме, вслед ему дико захохотали и заулюлюкали:
— Эй, Аман-джан, остановись, ха-ха-ха! Куда убегаешь, как заяц!
Всадники подъехали к чатме. Спокойно спешились. Аман голову опустил, прийти в себя не может.
— А мы давно вас караулили, — удовлетворено сказал один из басмачей, и Аман узнал его по голосу — Сейид-оглы.
— Сейид-оглы, сукин ты сын, что же ты наделал?! — со слезами в голосе прокричал Аман.
— Ничего, Аман-джан, плохого не случилось, если не считать, что мы связали трех большевистских собак.
Спешились басмачи, кинулись к казану с шурпой. Сейид-оглы тоже сел, и Аману велел сесть с ним рядом.
— Слава аллаху, все обошлось хорошо, — сказал Сейид-оглы, ощипывая желтыми зубами баранью косточку. — Мы боялись, что твой братец целый эскадрон за овцами пришлет. Думали, угонят сразу обе отары на бойню. А потом один из наших приехал и сказал: «Аман перед отъездом был у отца, проболтался, что едет, в пески с тремя «кошчинцами». Недооценил, нас твой брат, — засмеялся Сейид-оглы.
Аман слушал басмача и по спине у него ползли мурашки.
— С чем же я вернусь в Полторацк? — спросил он растерянно. — Кто мне поверит, что не я скрутил «кошчинцев»? Меня сразу же бросят в тюрьму. Ты подумал об этом, Сейид-оглы?
— Зачем тебе ехать в Полторацк? — спросил басмач. — Поедешь с нами на Уч-кую. А хочешь поедем сразу в Иран? Овец туда угоним, а потом и семью твою переправим. Можешь не беспокоиться — это я тебе говорю, Сейид-оглы.
— Нет! — вскрикнул Аман. — Нет!
— Ну и чего ты ревешь, как осел, если «нет», — обозлился Сейид-оглы. — Можно подумать, мы собственных овец вырвали из рук большевиков. Запомни, Аман, мы отобрали у них твои отары. Ты и твой отец хозяйничаете, а мы только кормимся возле вас.
— В песках мне делать нечего, — повторил Аман.
— Выходит, ты ищешь себе дело у большевиков, раз в пески не хочешь, — размыслил вслух Сейид-оглы. — Но подумал ли ты об этом, как следует? Ты ничем не отмоешься от своего происхождения. Черного козла белым не сделаешь. Можно, конечно, черного козла обсыпать белой мукой — станет белым, но надолго ли? Сейчас ты прячешься за спину Ратха. А если его не будет, тогда за кого спрячешься?
— Дорогой Овезкули-Сейид-оглы, — назвал басмача полным именем Аман. — Я думаю не о своей шкуре, а о своей жене и детях. Жена у меня, сын и две дочери. Дети учатся. Жена нашла подходящее место. Пусть мне будет плохо от большевиков, лишь бы их не трогали. А если я уйду с вами, то их сразу презреют. Жену со службы уволят, а дети в школе глаз не смогут поднять от стыда за собственного отца.
— Раньше ты таким не был, Аман, — сказал басмач. — Раньше ты был нашей душой — лихим наездником-джигитом. Тебе все мои удальцы завидовали. Неужели Советская власть тебя переделала?
— Сейид-оглы, ты ведешь со мной честный разговор, и я тебе тоже отвечу, не покривив душой. Постарел я для песков. Мне уже сорок. Это как раз такой возраст, когда надо думать о спокойной семейной жизни. Советская власть дает мне такую жизнь. Если я ей не наделаю зла, она не побеспокоит меня, даст дожить спокойно до самой старости.
Наступило долгое молчание. Сейид-оглы обдумывал — что сказать на это сыну Каюм-сердара. Ни убивать, ни уводить его силой с собой он не собирался.
— Ну что ж, — ответил с раздражением. — Поезжай домой и скажи им так: Сейид-оглы напал со своими джигитами, овец отобрал и угнал. Отцу за овец отдашь вот это. — Басмач бросил к ногам Амана туго набитый кожаный мешочек. — Тут золото в деньгах и слитках. Я думаю, Каюм-сердар не обидится, но чтобы я был уверен, что полото ты передашь отцу, — оставлю на несколько дней твоих друзей «кошчинцев» при себе. А если ты вздумаешь подшутить надо мной… Если отдашь золото Совнаркому, то этих трех несчастных я убью и заявлю, что сделал это ты, спасая отцовские отары. Тогда тебе трудно будет выкрутиться из их рук: они тебя расстреляют, как самого злобного врага. Ты меня понял, сын Каюм-сердара? Ишачий помет тебе в рот, ты не достоин своего отца, и мне трудно называть тебя его сыном. Ты — сын паршивой овцы, которую обгулял дикий кабан.