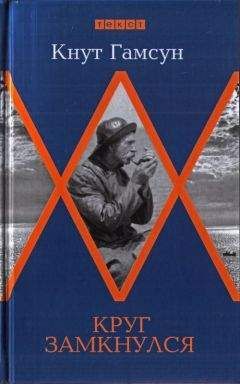— Немножко денег — это же для вас пустяки, капитан. А для меня… когда вся моя жизнь…
— Да, конечно, да-да, давай спокойно все обсудим и подумаем.
Она наседала:
— Очень хорошо с вашей стороны, что вы обещали мне помочь.
— Лолла, но почему ты не приходила? Знаешь, сколько времени прошло с тех пор, как ты была здесь? Могла бы и зайти.
— Я не смела.
— Но раз уж ты пришла, раздевайся и устраивайся поудобнее.
— Мне позарез нужна тысяча крон.
— Сколько? — шепотом переспросил он.
Они не смогли уговориться. Бродерсен настаивал на отсрочке: надо подождать, посмотреть, так оно все или не так.
— Снимай платье и устраивайся поудобнее!
Она спросила, как он только может думать про такое, и не пожелала к нему приблизиться. Ни сейчас, ни вообще больше никогда.
— Да и некогда мне оставаться, — сказала она. — Мне на рынок пора.
— Ну тогда приходи вечером.
— Нет, — сказала она и покачала головой.
— Нет?
— А чего ради приходить? Когда вы не желаете помочь мне, как обещали.
— Ну почему ж не желаю. Но тысяча крон…
— Вы ведь не знаете, сколько надо.
— А сколько стоит платье? — спросил он.
— Я ведь не на платье прошу.
— Но сколько все-таки стоит платье? Я подумывал насчет красивого платья для тебя. Ну, скажем, пятьдесят крон хватит?
Лолла опустилась к нему на колени и сказала:
— Ну, довольно шуток. Платье, и шляпка, и туфли, и перчатки, словом, самое малое — двести пятьдесят крон.
— Ну так уж и двести пятьдесят, — только и сказал он, а сам был до того занят тем, чтобы удержать ее у себя на коленях, что даже и не слышал собственных слов.
— И если вы дадите мне денег на такое платье…
— Да уж, видно, придется. Вечером будешь?
— Буду.
Он хотел сопровождать ее, дойти вместе с ней до банка и взять там деньги, но она не пожелала. Пусть он напишет бумажку, ну, чек, одним словом, и даст ей.
Вот как много сумела достичь Лолла.
А потом она снова от него скрылась. И вечером не пришла, и платье себе не купила. Она отнесла в банк его чек в уплату долга и тем выгадала несколько месяцев отсрочки. Вот, пожалуйста, чек от самого должника.
Ей нелегко было уклоняться от встречи с ним, это требовало больших ухищрений и труда. Она начала ходить за покупками на дальний рынок, а на улице глядела во все глаза и видела зорче, чем все остальные.
Потом Лолла снова «подумала», а подумав, усомнилась в правильности своего поведения. Точно ли она вела себя разумно? Она еще много должна, да вдобавок на ее попечении осталась мать. К тому же был риск, что в любой день история с фальшивой распиской может выйти на свет. И вот однажды, подстроив так, чтобы встретить на улице Бродерсена, она уже знала, как ей поступить.
Какое-то мгновение казалось, будто он хочет свернуть в сторону, избежать встречи как человек обиженный и оскорбленный, но она помахала ему и остановила.
Зорко оглядевшись по сторонам, она сказала ему вполголоса:
— Я все время так тревожилась, вы знаете из-за чего. Рыдала день и ночь, вы ведь знаете, довольно самой малости, и беда случится.
— Да.
— Но теперь опасность наверняка миновала.
Внимательно оглядевшись по сторонам, она тихо произнесла:
— Здесь я больше ничего не могу сказать, но я приду к вам вечером, если вы пожелаете.
Он сперва пробормотал, что она уже много чего сулила и обещала, но скоро сдался. И хотя вообще-то он держал путь на кладбище, к могилам обеих жен, тотчас повернул домой, чтобы навести там порядок.
Вечером она пришла. И была ласковая, и красивая, и отважная.
— Я не надела новое платье, — заявила она. — Я на это не решилась.
— Пустяки, — сказал он.
— А теперь слушайте: я думаю, что у меня все в порядке.
— Вот видишь! Так я и знал!
И, полагая, что теперь им уже ничто не помешает, начал возиться с ее пуговицами.
Она воспротивилась.
— Но я так долго тебя ждал. Один раз, единственный — и потом ты исчезла.
— Да, ваша правда… но неужели вы не можете забыть тот единственный раз?
Оказалось, что не может.
— Значит, все, что мы тогда делали, для вас незабываемо?
В ответ он только кивнул, что, мол, да, незабываемо.
— Тогда я думаю, — начала она и надолго умолкла, позволив ему тем временем расстегнуть две пуговицы у себя на блузке, — тогда я думаю… не желаете ли вы иметь меня здесь все время?
— Как это «все время»? Нет, нет.
— Чтоб я вообще от вас больше не уходила.
Он пробормотал, что его достатков не хватит, чтобы ее прокормить, пустяшная пенсия, нет, он ее не понимает.
— Ну а если мы поженимся?
У Бродерсена даже челюсть отвисла. Немного спустя он недоверчиво переспросил:
— Ты это всерьез?
Потом они помолчали, и каждый думал про свое. Еще он пробормотал, что слишком стар для нее, что на свете много молодых парней и что она все это не всерьез.
— Да, — ответствовала она, водрузившись к нему на колени, — все так, но ведь вы некоторым образом моя старая любовь, помните?
Тут и он невольно улыбнулся.
— Прямо с детских лет, понимаете? А такое не забывается.
Их обвенчали со всей возможной скоростью, ни он, ни она не хотели затягивать дело, обвенчали в приходской церкви с органом и хором. Старый Бродерсен твердо стоял на ногах, пастор величал его капитаном и толковал о юной деве, что припадает к тебе. Могли, конечно, возникнуть некоторые сложности, но оба сочли за благо действовать по правилу «да не зайдет солнце во гневе вашем». Пятеро друзей-капитанов присутствовали при церемонии, слушали и задремывали, слушали и снова задремывали. Итак, Бродерсен женился в третий раз. На Лолле было нарядное платье, башмаки и шляпка и перчатки — она своего добилась.
Они продолжали жить в мансарде. Лолла была особа толковая, их было всего двое, и места на двоих хватало хоть в комнате, хоть в кровати. Если найти жилье попросторнее, придется взять к себе мать Лоллы, но по множеству причин было лучше, чтобы она все-таки жила в своей хижине на берегу.
Они написали Абелю о том, какое «изменение произошло в их жизни», это письмо тоже не вернулось, но и ответа они не получили.
Престранный тип этот Абель.
И брак их оказался престранный, что, впрочем, можно было предвидеть. Лолла и думать не желала про своего мужа, да и он особо ее не домогался, так было лишь вначале — стариковская страсть, взбрык. Теперь, если ему изредка казалось, что он чего-то от нее хочет, она попросту отмахивалась: «Да брось ты!»
— Как ты смеешь так отвечать собственному мужу? — возмущался он.
— Ты ведь все равно ничего не можешь.
— Я не могу? А помнится, первый раз ты говорила, что я могу.
— Ах, дорогой, можешь не сомневаться, ты и тогда ничего не смог.
Оскорбленное молчание.
Потом он рассердился и взревновал:
— Значит, если я не могу, то есть кто-нибудь, кто, по-твоему, может?
На это она и вовсе не ответила.
Он, еще более сердито:
— Тогда уж откровенность за откровенность: мой шелковый платочек из Китая однажды торчал из кармана у совершенно чужого человека.
— Подумаешь! — презрительно фыркнула она.
— Учти, я сам видел.
— Подумаешь! — еще раз фыркнула она. — Тоже мне нашелся!
— Уж коли так, могла бы вернуть его мне.
— Верну, верну!
— Да нет, я вовсе не требую, — надулся он. И поскольку она молчала, продолжил: — Это как же так? Сперва ты дала платочек ему, а теперь пойдешь забирать? Очень хорошо! Иди, иди, и лучше всего вечером, а то и ночью, когда у него дежурство.
— Ну ладно, перестань об этом, сделай милость. Ты ведь помнишь, что ты моя первая любовь?
— Молчи, Лолла, я имею полное право говорить об этом.
— Конечно, имеешь, но да не зайдет солнце во гневе вашем.
Солнце и впрямь не зашло в их гневе. Лолла как-то исхитрялась всякий раз уладить дело. Но в сердце у старого Бродерсена засела заноза, он заметно сдавал и вообще больше ничего не стоил. Он снова отыскал старых дружков. У них было заведено относиться к нему с почтением, как к человеку о двух сберегательных книжках. Но и дружки за это время переменились: одни завидовали, другие злорадствовали.
«Что это ты вдруг ни с того ни с сего оженился? — спрашивали они. — И как же ты управляешься ночью? Не слишком ли она молода для тебя?» Хуже всех был Кьербу, самый старый из них и вдобавок совсем беззубый. «Я тоже подумывал о переменах в жизни, — говорил Кьербу, — но тогда мне понадобился бы заодно и домашний священник. А тебе он, часом, не нужен?»
— Ничуть, — отвечал Бродерсен, вставая с места.
— Куда же ты? Давай посидим, поболтаем.
— Да нет, я уж лучше пойду.
— Что-то ты заважничал с тех пор, как женился.
— Ничего я не заважничал, — затравленно отвечал Бродерсен, — просто у меня нет больше сил слушать твои глупости.