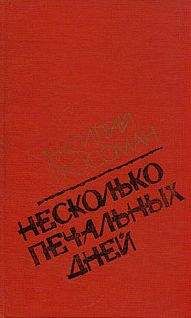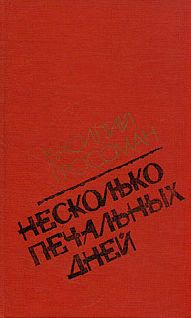А Марфа Дементьевна вспоминала главного хозяина, спокойного рябого товарища Сталина, и жалела Николая Ивановича, глаза его казались ей жалобными, растерянными.
Она словно не знала, что взор Ежова заморозил ужасом всю великую Россию.
День и ночь шли допросы во Внутренней, Лефортовской, в Бутырской тюрьмах, шли день и ночь эшелоны в Коми, на Колыму, в Норильск, в Магадан, в бухту Нагаево. На рассвете крытые грузовики вывозили тела расстрелянных в тюремных подвалах.
Догадывалась ли Марфа Дементьевна, что страшная судьба молодого референта из лондонского посольства и его миловидной жены, так и не докормившей грудью своей маленькой дочери, так и не закончившей консерватории по классу пения, была решена подписью, что сделал на длинном списке фамилий ее хозяин, питерский рабочий Николай Иванович. А он все подписывал, десятками, эти огромные списки врагов народа, и черный дым пер из труб московского крематория.
Однажды Марфа Дементьевна слышала, как кухарка, закуривая папироску, шепотом сказала вслед хозяйке:
– Вот и ты отцарствовала.
Видимо, кухарка уже знала о том, чего не знала няня.
В эти последние дни Марфе Дементьевне запомнилась пришедшая в дом тишина. Не звонил телефон. Не приезжали гости. Не вызывал утром хозяин своих заместителей, секретарей, помощников, адъютантов, порученцев. Хозяйка не ездила на работу, лежала в халате на диване, читала, зевая, книгу, задумывалась, усмехалась, ходила в ночных бесшумных туфлях по комнатам.
Одна Надюша была слышна в доме: плакала, смеялась, гремела игрушками.
Однажды утром к хозяйке приехала гостья – старушка. В комнате было тихо, словно хозяйка и гостья сидели молча.
Кухарка подошла к двери и прислушалась.
Потом хозяйка со старушкой зашли к Наде. Старушка была штопаная-перештопаная и уж такая робкая, что, казалось, не только говорить, но и смотреть боялась.
– Марфа Дементьевна, познакомьтесь, моя мама, – сказала хозяйка.
А через три дня хозяйка сказала Марфе Дементьевне, что ложится на операцию в Кремлевскую больницу. Говорила она быстро, громко, каким-то фанерным голосом. Надюшу она, прощаясь, оглядела рассеянно, поцеловала коротким поцелуем. В дверях она посмотрела в сторону кухни, обняла Марфу Дементьевну и шепнула ей на ухо:
– Нянечка, помните, если со мной что случится, вы одна у нее, никого, никого на всем свете у нее нет.
Девочка, точно понимая, что речь идет о ней, сидела на стульчике тихо, смотрела серыми глазами.
В больницу хозяйку муж не провожал, приехали за ней порученец – полнотелый генерал с букетом красных роз и личный охранник Николая Ивановича.
А Николай Иванович вернулся с работы домой лишь утром, не зашел к Наде, писал, курил в кабинете, вызвал машину и снова уехал.
После этого дня событий, потрясших, а затем разрушивших жизнь дома, стало очень много и они спутались в памяти Марфы Дементьевны.
Скоропостижно умерла в больнице Надюшина мама, супруга Николая Ивановича Ежова. Она была неплохая женщина, не злая, и девочку жалела, но все же она была странная.
Николай Иванович в этот день приехал домой очень рано.
Он попросил Марфу Дементьевну привести в кабинет к нему Надю. Отец с дочерью поили чаем пластмассового поросенка, укладывали спать куклу и медведя. Потом до утра Ежов ходил по кабинету.
А вскоре не вернулся домой маленький человек с серо-зелеными глазами, Николай Иванович Ежов.
Кухарка сидела на постели покойной хозяйки, потом долго разговаривала по телефону из кабинета хозяина, курила его папиросы.
Приехали гражданские люди и люди в форме, ходили по комнатам в шинелях и пальто, грязными сапогами и галошами ступали по коврам, по светлой дорожке, ведущей к сиротской Надиной комнатке.
Ночью Марфа Дементьевна сидела возле спящей девочки, неотступно смотрела на нее. Она решила увезти Надю в деревню и все представляла себе, как от Ельца они будут добираться на попутной подводе домой, как встретит их брат и как Надя будет вскрикивать, радоваться, когда увидит гусят, теленка, петуха.
– Прокормлю, выучу, – подумала Марфа Дементьевна, и материнское чувство наполняло светом ее девичью душу.
Всю ночь шумели военные люди, вытаскивали из шкафов книги, белье, посуду – шел обыск.
И у новых пришельцев глаза были напряженные, сумасшедшие, к каким привыкла Марфа Дементьевна за последнее время.
Лишь Надюша, проснувшись и справив малые дела, умиротворенно позевывала, да Сталин без всякого любопытства, спокойно прищурясь, глядел с портрета на то, что должно было совершиться и совершалось.
А с утра приехал краснолицый и толстый, как кубарь, которого кухарка называла «майор». Он прошел прямо в детскую, где Надя в накрахмаленном фартучке с вышитым красным петухом важно и неторопливо ела овсяную кашу, и приказал:
– Оденьте девочку потеплей, соберите ее вещи.
Марфа Дементьевна, превозмогая волнение, медленно
спросила:
– Это же куда, зачем?
– Ребенка поместим в детдом. А вы приготовьтесь, получите причитающуюся вам зарплату, билет и отправитесь к себе на родину, в деревню.
– А где моя мама? – вдруг спросила Надя и перестала есть, отодвинула тарелочку с синей каемочкой.
Но ей никто не ответил, ни Марфа Дементьевна, ни майор.
В общежитии работниц государственного радиозавода, в комнатах, в местах общего пользования соблюдалась образцовая чистота, постели девушек были застелены накрахмаленными одеялами, на подушках лежали накидки, а на окнах висели кружевные, в складчину купленные, занавески.
У многих кроватей на тумбочках стояли вазочки с красивыми искусственными цветами – розами, тюльпанами и маками.
По вечерам работницы читали журналы и книжки в красном уголке, участвовали в танцевальных и хоровых кружках, во дворце культуры смотрели кинокартины и самодеятельные спектакли. Некоторые девушки занимались на вечерних курсах кройки и шитья, либо на курсах подготовки в вуз, некоторые учились на вечернем отделении электромеханического техникума.
Очередной профотпуск работницы редко проводили в городе – завком давал отличившимся в работе бесплатные путевки в профсоюзные дома отдыха, многие на время отпуска уезжали в деревню к родным.
Говорили, что в домах отдыха некоторые девушки позволяют себе лишнее, гуляют по ночам, теряют в весе, а в мужских комнатах народ пьянствует, не соблюдает мертвый час, режется в карты.
Рассказывали, что отдыхающие ребята с механического завода ночью забрались в ларек и вытащили ящик пива, шесть поллитров и все это распили в музыкальной комнате, покрыли матом главврача, прибежавшего на шум. Всех их выписали досрочно из дома отдыха, сообщили о них в заводской партком. А на троих отдыхающих, по чьей-то инициативе был обворован ларек, милиция завела дело, и они потом отрабатывали два месяца принудиловку по месту работы.
Никогда ничего подобного не происходило в общежитии радиозавода.
Комендант общежития, Ульяна Петровна, отличалась строгостью. Как-то одна девочка привела к себе в комнату знакомого и с согласия остальных жилиц оставила его ночевать.
Ульяна Петровна осрамила эту девчонку, в двадцать четыре часа выселила ее из общежития.
Но Ульяна Петровна была не только суровой, она умела проявлять теплоту. С ней советовались, как с близкой, родной – она была общественницей, проверенным человеком, не раз избиралась депутатом районного Совета. При ней в общежитии не было ни пьянства, ни разврата, ни ночной гармошки.
Работнице-сборщице Наде Ежовой очень нравилось образцовое общежитие после грубых, жестоких нравов детдома.
Годы, проведенные в детских домах, были самыми тяжелыми в ее жизни. Особенно трудно жилось ей во время войны в пензенском детдоме: даже неизбалованные детдомовские ребята неохотно ели суп из тухлой кукурузной муки, который давался на обед и к ужину. Постельное и нательное белье менялось редко – его не хватало, а часто стирать белье нельзя было из-за нехватки дров и мыла. В бане по решению горсовета детдомовских детей полагалось мыть два раза в месяц, но решение это нарушалось, так как в двух городских банях всегда мылись военные из запасных частей, а у старенькой бани, расположенной за вокзалом, с рассвета стояли молчаливые и злые очереди. Да и радости от этого мытья было немного – в бане гулял холодный ветерок, сырые дрова рождали больше дыма, чем тепла, вода была чуть теплая.
Наде в Пензе все время было холодно – и ночью в спальной комнате, и в классе, где шили рубахи для фронта и велись школьные занятия, и даже на кухне, где она иногда помогала кухарке выбирать червей из кукурузной муки. И так же тяжелы, как холод и голод, были грубость воспитателей, злоба детей, воровство, царившее в спальнях. Стоило на миг задуматься – и исчезали хлебные пайки, карандаши, трусы, косынки. Одна девочка получила посылку, заперла ее в тумбочку и пошла на занятия, а когда вернулась, замочек висел как бы нетронутый, а посылка из тумбочки исчезла.