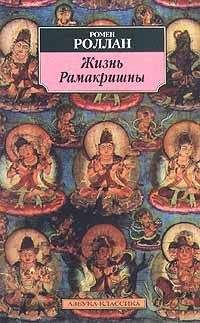«Я не могу больше здесь жить, не могу, я умру, если пробуду здесь еще немного».
Отец тотчас же приехал, и как ни трудно было им выдержать борьбу с грозной теткой, отчаяние придало им силы.
Грация вернулась в их огромный, по-прежнему сонный парк. Радостно встретилась она с милой природой, с милыми ее душе существами. Из Парижа она унесла с собой и все еще хранила в своем наболевшем и только теперь обретавшем спокойствие сердце чуточку северной грусти, которая, словно туманная дымка, понемногу таяла на солнце. Она думала о несчастном Кристофе. Лежа часами на лужайке и слушая знакомые голоса лягушек и цикад или сидя за роялем, к которому теперь ее влекло чаще, она мечтала о друге, о первом своем друге; часами тихонько разговаривала с ним и ничуть не удивилась, если бы он вдруг открыл дверь и вошел в комнату. Она написала ему письмо и после долгих колебаний послала, не подписав своего имени; как-то утром тайком от всех она отправилась полями за три километра в дальнюю деревушку и с бьющимся сердцем опустила в почтовый ящик свое послание — хорошее, трогательное, где говорила Кристофу, что он не одинок, что он не должен отчаиваться, что о нем думают, его любят, молятся за него, — жалкое письмо, глупо затерявшееся по дороге и так и не дошедшее до него.
Потом потянулись однообразные, безмятежные дни. И снова глубокий италийский мир, дух покоя, тихого счастья, безмолвной созерцательности снизошли в целомудренное, молчаливое сердце далекой подруги Кристофа, сердце, где продолжало теплиться, как неугасимый огонек, воспоминание о нем.
Но Кристоф не ведал о простодушной любви, издали осенявшей его, — о любви, которой впоследствии суждено было занять столько места в его жизни. Он не знал также, что на том самом концерте, где его так грубо оскорбили, присутствовал и его будущий друг, милый спутник, которому предстояло идти с ним бок о бок, рука в руке.
Кристоф был одинок. Считал, что одинок. Впрочем, это нисколько не угнетало его. Он не чувствовал теперь той щемящей тоски, которая томила его когда-то в Германии. Он окреп, возмужал; он знал, что так оно и должно быть. Его иллюзии насчет Парижа рассеялись: люди везде одинаковы, надо с этим мириться, а не упорствовать в ребяческой борьбе с целым светом: надо быть самим собой, сохранять спокойствие. Как говорил Бетховен: «Если мы отдадим жизни все наши жизненные соки, то что же останется нам для более благородного, более возвышенного дела?» Кристоф с необыкновенной ясностью осознал свой характер и характер своего народа, который некогда так строго осуждал. Чем больше его угнетала атмосфера Парижа, тем сильнее испытывал он потребность искать прибежища у себя на родине, в объятиях поэтов и композиторов, вобравших в себя все лучшее, что в ней есть. Стоило ему открыть их книги, и комнату тотчас наполнял голос залитого солнцем Рейна, освещала приветливая улыбка покинутых старых друзей.
Как он был неблагодарен! Как мог он не открыть раньше сокровища их чистых и добрых сердец? С краской стыда вспоминал он все, что наговорил несправедливого и оскорбительного о них, когда еще жил в Германии. Тогда он видел только их недостатки, их неуклюже церемонные манеры, их слезливый идеализм, их притворство, их приступы малодушия. Ах, какая это была мелочь по сравнению с их огромными достоинствами! Как мог он быть таким жестоким к их слабостям и какими трогательными казались они ему теперь даже благодаря этим слабостям — какими человечными! Наступила естественная реакция: сейчас его привлекали как раз те из них, кто особенно пострадал от его несправедливости. Чего только не наговорил он в свое время о Шуберте или о Бахе! А теперь он чувствовал, как они ему близки. Теперь эти великие души, в которых он с таким нетерпением искал смешные и нелепые черты, склонялись над изгнанником, заброшенным на чужбину, и с ласковой улыбкой говорили ему:
«Брат наш! Мы здесь. Мужайся! И на нашу долю выпало больше бед, чем полагается человеку… Пустое! С этим можно справиться…»
Он слышал бушевание безбрежной, как океан, души Иоганна-Себастьяна Баха: ревут ураганы и ветры, проносится вихрь жизни; народы, опьяненные ликованием, болью, яростью, и над ними — кроткий Князь Мира, Христос; города, разбуженные криками ночной стражи, с радостными возгласами устремляются навстречу божественному Жениху, чьи шаги сотрясают мир; дивный кладезь мыслей, страстей, музыкальных форм, героической жизни, шекспировских озарений, савонароловских пророчеств, пасторальных, эпических, апокалиптических видений, — и все это заключено в приземистом, скромном тюрингенском органисте, с двойным подбородком, с блестящими глазками, с морщинистыми веками и высоко поднятыми бровями… Кристоф так ясно его видел! Вот он — суровый, жизнерадостный, немного смешной, с головой, наполненной аллегориями и символами, готикой и рококо, вспыльчивый, упрямый, безмятежно ясный, страстно любящий жизнь и томящийся по смерти; Кристоф видел его в школе — гениального педанта среди грязных, грубых, нищих, покрытых коростой учеников, с хриплыми голосами, негодяев, с которыми он ругался, иногда даже дрался, как крючник, и которые однажды избили его; видел его в семье, окруженным кучей детей — их было двадцать один человек, из которых тринадцать умерли раньше отца, а один родился идиотом; остальные, хорошие музыканты, устраивали для него домашние концерты… Болезни, похороны, ядовитые споры, нужда, непризнанный гений, и над всем этим — его музыка, его вера, избавление и свет, прозреваемая, предчувствуемая, желанная, завоеванная Радость — бог, дыханье божье, обжигавшее его до костей, поднимавшее дыбом волосы, метавшее громы из его уст… О Сила! Сила! Благословенна гроза Силы!..
Кристоф жадно впивал в себя эту силу. Он чувствовал благотворное действие могучей музыки, лившейся из немецких душ. Часто музыки посредственной, даже грубой — пусть. Важно, что она есть, что она течет полноводной рекой. Во Франции музыку собирают капля по капле, пропустив через пастеровские фильтры в тщательно закупоренные флаконы. И эти потребители тепленькой водицы брезгливо морщатся при виде потоков немецкой музыки! Выискивают ошибки немецких гениев!
«Жалкая мелюзга! — думал Кристоф, позабыв о том, что сам недавно был так же смешон. — Они, видите ли, находят ошибки у Вагнера и у Бетховена! Им нужны гении, свободные от каких бы то ни было недостатков!.. Как будто бушующий ураган заботится о том, чтобы не нарушить раз установленного порядка!..»
Он шагал по улицам Парижа, гордясь избытком сил. Пусть он остался непонятым — тем лучше, тем свободнее он будет. Чтобы создать, как подобает гению, мир, построенный согласно законам его души, нужно погрузиться в этот мир. Художник никогда не бывает слишком одинок. Самое ужасное видеть свою мысль отраженной в зеркале, которое искажает и умаляет ее. Никогда не следует делиться с другими своими замыслами прежде, чем не осуществишь их, — иначе не хватит мужества дойти до цели, ибо тогда вместо своего замысла будешь вынашивать жалкие мысли, подсказанные со стороны.
Теперь, когда ничто уже не отвлекало Кристофа от его мечтаний, они били фонтаном из всех уголков его души, из-под каждого камня его тяжкого пути. Он пребывал точно в трансе. Все, что он видел и слышал, рождало в нем образы, не похожие на то, что он видел и слышал. Нужно было просто жить — и тогда вокруг тебя оживали твои герои. Их чувства сами просились к нему в душу. Глаза прохожих, случайно донесенная ветром фраза, блик света на зеленой лужайке, щебет птиц в Люксембургском саду, отдаленный звон монастырского колокола, бледное небо, маленькая его полоска, видневшаяся из окна комнаты, оттенки звуков и красок — разные в разные часы дня, — все это он видел не своими глазами, а глазами существ, созданных его мечтами. Кристоф был счастлив.
Между тем жить становилось все труднее. Он потерял те немногие уроки музыки, которые были его единственным источником существования. Стоял сентябрь, парижское общество еще не съехалось в столицу, и было нелегко найти новых учеников. У него остался только один — умный чудаковатый инженер, решивший стать в сорок лет знаменитым скрипачом. Кристоф играл на скрипке посредственно, но все же гораздо лучше своего ученика; в течение некоторого времени он давал ему три урока в неделю, по два франка за час. Но через полтора месяца инженеру надоела скрипка, и он внезапно открыл, что его настоящее призвание живопись. Когда он поведал об этом открытии Кристофу, тот долго смеялся, но, посмеявшись, подсчитал свои капиталы и обнаружил в кармане ровно двенадцать франков, уплаченных учеником за последние уроки. Это его ничуть не взволновало; он только подумал, что придется, не откладывая, изыскивать другие источники заработка, в частности, снова обойти издательства. Невеселая перспектива!.. Ну что же!.. Не стоит заранее портить себе настроение. Погода была чудесная. И он отправился в Медон.