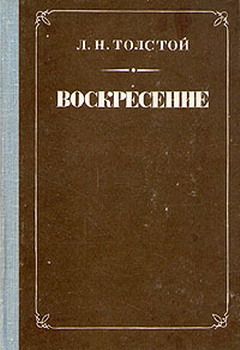Нехлюдов удивился, услыхав дрожание голоса Симонсона.
— … облегчить ее положение, — продолжал Симонсон. — Если она не хочет принять вашей помощи, пусть она примет мою. Если бы она согласилась, я бы просил, чтобы меня сослали в ее место заключения. Четыре года — не вечность.
Я бы прожил подле нее и, может быть, облегчил бы ее участь… — Опять он остановился от волненья.
— Что же я могу сказать? — сказал Нехлюдов. — Я рад, что она нашла такого покровителя, как вы…
— Вот это-то мне и нужно было знать, — продолжал Симонсон. — Я желал знать, любя ее, желая ей блага, нашли ли бы вы благом ее брак со мной?
— О да, — решительно сказал Нехлюдов.
— Все дело в ней, мне ведь нужно только, чтобы эта пострадавшая душа отдохнула, — сказал Симонсон, глядя на Нехлюдова с такой детской нежностью, какой никак нельзя было ожидать от этого мрачного вида человека.
Симонсон встал и, взяв за руку Нехлюдова, потянулся к нему лицом, застенчиво улыбнулся и поцеловал его.
— Так я так и скажу ей, — сказал он и вышел.
— А, каково? — сказала Марья Павловна. — Влюблен, совсем влюблен. Вот уж чего никогда не ожидала бы, чтобы Владимир Симонсон влюбился таким самым глупым, мальчишеским влюблением. Удивительно и, по правде скажу, огорчительно, — заключила она, вздохнув.
— Но она, Катя? Как, вы думаете, относится она к этому? — спросил Нехлюдов.
— Она? — Марья Павловна остановилась, очевидно желая как можно точнее ответить на вопрос. — Она? Видите ли, она, несмотря на ее прошедшее, по природе одна из самых нравственных натур… и так тонко чувствует… Она любит вас, хорошо любит, и счастлива тем, что может сделать вам хоть то отрицательное добро, чтобы не запутать вас собой. Для нее замужество с вами было бы страшным падением, хуже всего прежнего, и потому она никогда не согласится на это. А между тем ваше присутствие тревожит ее.
— Так что же, исчезнуть мне? — сказал Нехлюдов.
Марья Павловна улыбнулась своей милой детской улыбкой.
— Да, отчасти.
— Как же исчезнуть отчасти?
— Я соврала; но про нее-то я хотела вам сказать, что, вероятно, она видит нелепость его какой-то восторженной любви (он ничего не говорил ей), и польщена ею, и боится ее. Вы знаете, я не компетентна в этих делах, но мне кажется, что с его стороны самое обыкновенное мужское чувство, хотя и замаскированное Он говорит, что эта любовь возвышает в нем энергию и что эта любовь платоническая. Но я-то знаю, что если это исключительная любовь, то в основе ее лежит непременно все-таки гадость… Как у Новодворова с Любочкой.
Марья Павловна отвлеклась от вопроса, разговорившись на свою любимую тему.
— Но что же мне делать? — спросил Нехлюдов.
— Я думаю, что надо вам сказать ей. Всегда лучше, чтобы было все ясно.
Поговорите с ней, я позову ее. Хотите? — сказала Марья Павловна.
— Пожалуйста, — сказал Нехлюдов, и Марья Павловна вышла.
Странное чувство охватило Нехлюдова, когда он остался один в маленькой камере, слушая тихое дыхание, прерываемое изредка стонами Веры Ефремовны, и гул уголовных, не переставая раздававшийся за двумя дверями.
То, что сказал ему Симонсон, давало ему освобождение от взятого на себя обязательства, которое в минуты слабости казалось ему тяжелым и странным, а между тем ему было что-то не только неприятно, но и больно. В чувстве этом было и то, что предложение Симонсона разрушило исключительность его поступка, уменьшало в глазах своих и чужих людей цену жертвы, которую он приносил: если человек, и такой хороший, ничем не связанный с ней, желал соединить с ней судьбу, то его жертва уже не была так значительна. Было тоже, может быть, простое чувство ревности: он так привык к ее любви к себе, что не мог допустить, чтобы она могла полюбить другого. Было тут и разрушение раз составленного плана — жить при ней, пока она будет отбывать наказание. Если бы она вышла за Симонсона, присутствие его становилось ненужно, и ему нужно было составлять новый план жизни. Он не успел разобраться в своих чувствах, как в оговоренную дверь ворвался усиленный эвук гула уголовных (у них нынче было что-то особенное) и в камеру вошла Катюша.
Она подошла к нему быстрыми шагами.
— Марья Павловна послала меня, — сказала она, останавливаясь близко подле него.
— Да, мне нужно поговорить. Да присядьте. Владимир Иванович говорил со мной.
Она села, сложив руки на коленях, и казалась спокойною, но, как только Нехлюдов произнес имя Симонсона, она багрово покраснела.
— Что же он вам говорил? — спросила она.
— Он сказал мне, что хочет жениться на вас.
Лицо ее вдруг сморщилось, выражая страдание. Она ничего не сказала и только опустила глаза.
— Он спрашивает моего согласия или совета. Я сказал, что все зависит от вас, что вы должны решить.
— Ах, что это? Зачем? — проговорила она и тем странным, всегда особенно сильно действующим на Нехлюдова, косящим взглядом посмотрела ему в глаза.
Несколько секунд они молча смотрели в глаза друг другу. И взгляд этот многое сказал и тому и другому.
— Вы должны решить, — повторил Нехлюдов.
— Что мне решать? — сказала она. — Все давно решено.
— Нет, вы должны решить, принимаете ли вы предложение Владимира Ивановича, — сказал Нехлюдов.
— Какая я жена — каторжная? Зачем мне погубить еще и Владимира Ивановича? — сказала она, нахмурившись.
— Да, но если бы вышло помилование? — сказал Нехлюдов.
— Ах, оставьте меня. Больше нечего говорить, — сказала она и, встав, вышла из камеры.
Когда Нехлюдов вернулся вслед за Катюшей в мужскую камеру, там все были в волнении. Набатов, везде ходивший, со всеми входивший в сношения, все наблюдавший, принес поразившее всех известие. Известие состояло в том, что он на стене нашел записку, написанную революционером Петлиным, приговоренным к каторжным работам. Все полагали, что Петлин уже давно на Каре, и вдруг оказывалось, что он только недавно прошел по этому же пути с уголовными.
«17-го августа, — значилось в записке, — я отправлен один с уголовными.
Неверов был со мной и повесился в Казани, в сумасшедшем доме. Я здоров и бодр и надеюсь на все хорошее».
Все обсуживали положение Петлина и причины самоубийства Неверова.
Крыльцов же с сосредоточенным видом молчал, глядя перед собой остановившимися блестящими глазами.
— Мне муж говорил, что Неверов видел привиденья еще в Петропавловке, — сказала Ранцева.
— Да, поэт, фантазер, такие люди не выдерживают одиночки, — сказал Новодворов. — Я вот, когда попадал в одиночку, не позволял воображению работать, а самым систематическим образом распределял свое время. От этого всегда и переносил хорошо.
— Чего не переносить? Я так часто просто рад бывал, когда посадят, — сказал Набатов бодрым голосом, очевидно желая разогнать мрачное настроение.
— То всего боишься: и что сам попадешься, и других запутаешь, и дело испортишь, а как посадят — конец ответственности, отдохнуть можно. Сиди себе да покуривай.
— Ты его близко знал? — спросила Марья Павловна, беспокойно взглядывая на вдруг изменившееся, осунувшееся лицо Крыльцова.
— Неверов фантазер? — заговорил вдруг Крыльцов, задыхаясь, точно он долго кричал или пел. — Неверов — это был такой человек, которых, как наш швейцар говорил, мало земля родит… Да… это был весь хрустальный человек, всего насквозь видно. Да… он не то что солгать — не мог притворяться. Не то что тонкокожий, он точно весь был ободранный, и все нервы наружу. Да… сложная, богатая натура, не такая… Ну, да что говорить!.. — Он помолчал. — Мы спорим, что лучше, — злобно хмурясь, сказал он, — прежде образовать народ, а потом изменить формы жизни, или прежде изменить формы жизни, и потом — как бороться: мирной пропагандой, террором? Спорим, да. А они не спорят, они знают свое дело, им совершенно все равно, погибнут, не погибнут десятки, сотни людей, да каких людей! Напротив, им именно нужно, чтобы погибли лучшие. Да, Герцен говорил, что, когда декабристов вынули из обращения, понизили общий уровень. Еще бы не понизили! Потом вынули из обращения самого. Герцена и его сверстников. Теперь Неверовых…
— Всех не уничтожат, — своим бодрым голосом сказал Набатов. — Все на развод останутся.
— Нет, не останутся, коли мы будем жалеть их, — возвышая голос и не давая перебить себя, сказал Крыльцов. — Дай мне папироску.
— Да ведь нехорошо тебе, Анатолий, — сказала Марья Павловна, — пожалуйста, не кури.
— Ах, оставь, — сердито сказал он и закурил, но тотчас же закашлялся; его стало тянуть как бы на рвоту. Отплевавшись, он продолжал:
— Не то мы делали, нет, не то. Не рассуждать, а всем сплотиться… и уничтожать их. Да.
— Да ведь они тоже люди, — сказал Нехлюдов.
— Нет, это не люди, — те, которые могут делать то, что они делают…