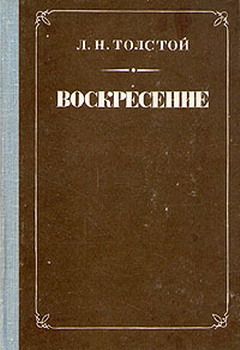Единственное объяснение всего совершающегося было пресечение, устрашение, исправление и закономерное возмездие, как это писали в книгах.
Но в действительности не было никакого подобия ни того, ни другого, ни третьего, ни четвертого. Вместо пресечения было только распространение преступлений. Вместо устрашения было поощрение преступников, из которых многие, как бродяги, добровольно шли в остроги. Вместо исправления было систематическое заражение всеми пороками. Потребность же возмездия не только не смягчалась правительственными наказаниями, но воспитывалась в народе, где ее не было.
«Так зачем же они делают это?» — спрашивал себя Нехлюдов и не находил ответа.
И что более всего удивляло его, это было то, что все делалось не нечаянно, не по недоразумению, не один раз, а что все это делалось постоянно, в продолжение сотни лет, с той только разницей, что прежде это были с рваными носами и резаными ушами, потом клейменые, на прутах, а теперь в наручнях и движимые паром, а не на подводах.
Рассуждение о том, что то, что возмущало его, происходило, как ему говорили служащие, от несовершенства устройства мест заключения и ссылки и что это все можно поправить, устроив нового фасона тюрьмы, — не удовлетворяло Нехлюдова, потому что он чувствовал, что то, что возмущало его, происходило не от более или менее совершенного устройства мест заключения. Он читал про усовершенствованные тюрьмы с электрическими звонками, про казни электричеством, рекомендуемые Тардом, и усовершенствованные насилия еще более возмущали его.
Возмущало Нехлюдова, главное, то, что в судах и министерствах сидели люди, получающие большое, собираемое с народа жалованье за то, что они, справляясь в книжках, написанных такими же чиновниками, с теми же мотивами, подгоняли поступки людей, нарушающих написанные ими законы, под статьи и по этим статьям отправляли людей куда-то в такое место, где они уже не видали их и где люди эти в полной власти жестоких, огрубевших смотрителей, надзирателей, конвойных миллионами гибли духовно и телесно.
Узнав ближе тюрьмы и этапы, Нехлюдов увидал, что все те пороки, которые развиваются между арестантами: пьянство, игра, жестокость и все те страшные преступления, совершаемые острожниками, и самое людоедство — не суть случайности или явления вырождения, преступного типа, уродства, как это на руку правительствам толкуют тупые ученые, а есть неизбежное последствие непонятного заблуждения о том, что люди могут наказывать других. Нехлюдов видел, что людоедство начинается не в тайге, а в министерствах, комитетах и департаментах и заключается только в тайге; что его зятю, например, да и всем тем судейским и чиновникам, начиная от пристава до министра, не было никакого дела до справедливости или блага народа, о которых они говорили, а что всем нужны были только те рубли, которые им платили за то, чтобы они делали все то, из чего выходит это развращение и страдание. Это было совершенно очевидно.
«Так неужели же и это все делалось только по недоразумению? Как бы сделать так, чтобы обеспечить всем этим чиновникам их жалованье и даже давать им премию за то, чтобы они только не делали всего того, что они делают?» — думал Нехлюдов. И на этих мыслях, уже после вторых петухов, несмотря на блох, которые, как только он шевелился, как фонтан, брызгали вокруг него, он заснул крепким сном.
Когда Нехлюдов проснулся, извозчики уже давно съехали, хозяйка напилась чаю и, отирая платком потную толстую шею, пришла сказать, что этапный солдат принес записку. Записка была от Марьи Павловны. Она писала, что припадок Крыльцова серьезнее, чем они думали. «Мы одно время хотели оставить его и остаться с ним, но этого не позволили, и мы повезем его, но всего боимся.
Постарайтесь устроить в городе так, чтобы, если его оставят, оставили бы кого-нибудь из нас. Если для этого нужно, чтобы я вышла за него замуж, то я, разумеется, готова».
Нехлюдов послал малого на станцию за лошадьми и поспешно стал укладываться. Он еще не допил второго стакана, как перекладная тройка, звеня колокольчиками и гремя колесами по замерзшей грязи, как по мостовой, подъехала к крыльцу. Расплатившись с толстошеей хозяйкой, Нехлюдов поспешил выйти и, усевшись на переплет телеги, велел ехать как можно скорей, желая догнать партию. Недалеко за воротами поскотины он действительно догнал телеги, нагруженные мешками и больными, которые громыхали по начинавшей накатываться замерзшей грязи (офицера не было, он уехал вперед). Солдаты, очевидно выпившие, весело болтая, шли сзади и по сторонам дороги. Телег было много. В передних тесно сидело человек по шести слабых уголовных, на задних трех ехали — по три на подводе — политические. На самой задней сидели Новодворов, Грабец и Кондратьев, на второй — Ранцева, Набатов и та слабая женщина в ревматизмах, которой Марья Павловна уступила свое место. На третьей, на сене и подушках, лежал Крыльцов. На облучке подле него сидела Марья Павловна. Нехлюдов остановил ямщика около Крыльцова и пошел к нему.
Выпивший конвойный замахал рукой на Нехлюдова, но Нехлюдов, не обращая на него внимания, подошел к телеге и, держась за грядку, пошел рядом. Крыльцов, в тулупе и мерлушковой шапке, с завязанным платком ртом, казался еще худее и бледнее. Прекрасные глаза его казались особенно велики и блестящи. Слабо качаясь от толчков дороги, он, не спуская глаз, смотрел на Нехлюдова и на вопрос о здоровье только закрыл глаза и сердито закачал головой. Вся энергия его, очевидно, уходила на перенесение толчков телеги. Марья Павловна сидела на другой стороне телеги. Она переглянулась с Нехлюдовым значительным взглядом, выражавшим все ее беспокойство о положении Крыльцова, и потом сейчас заговорила веселым голосом.
— Видно, устыдился офицер, — закричала она, чтобы быть слышной из-за грохота колес Нехлюдову. — С Бузовкина сняли наручники. Он сам несет девочку, и с ними идет Катя и Симонсон и вместо меня Верочка.
Крыльцов что-то, чего нельзя было расслышать, сказал, указывая на Марью Павловну, и, нахмурившись, очевидно сдерживая кашель, закачал головой.
Нехлюдов приблизил голову, чтобы расслышать. Тогда Крыльцов выпростал рот из платка и прошептал:
— Теперь гораздо лучше. Только бы не простудиться.
Нехлюдов кивнул утвердительно головой и переглянулся с Марьей Павловной.
— Ну, что проблема трех тел? — прошептал еще Крыльцов и трудно, тяжело улыбнулся. — Мудреное решение?
Нехлюдов не понял, но Марья Павловна объяснила ему, что это знаменитая математическая проблема определения отношения трех тел: солнца, луны и земли, и что Крыльцов шутя придумал это сравнение с отношением Нехлюдова, Катюши и Симонсона. Крыльцов кивнул головой в знак того, что Марья Павловна верно объяснила его шутку.
— Не за мной решение, — сказал Нехлюдов.
— Получили мою записку, сделаете? — спросила Марья Павловна.
— Непременно, — сказал Нехлюдов и, заметив недовольство на лице Крыльцова, отошел к своей повозке, влез на свой провиснувший переплет и, держась за края телеги, встряхивавшей его по колчам ненакатанной дороги, стал обгонять растянувшуюся на версту партию серых халатов и полушубков кандальных и парных в наручнях. На противоположной стороне дороги Нехлюдов узнал синий платок Катюши, черное пальто Веры Ефремовны, куртку и вязаную шапку и белые шерстяные чулки, обвязанные вроде сандалий ремнями, Симонсона.
Он шел рядом с женщинами и что-то горячо говорил.
Увидав Нехлюдова, женщины поклонились ему, а Симонсон торжественно приподнял шапку. Нехлюдов не имел ничего сказать и, не остановив ямщика, обогнал их. Выехав опять на накатанную дорогу, ямщик поехал еще скорей, но беспрестанно должен был съезжать с накатанного, чтобы объезжать тянувшиеся по дороге в обе стороны обозы.
Дорога, вся изрытая глубокими колеями, шла темным хвойным лесом, пестревшим с обеих сторон яркой и песочной желтизной не облетевших еще листьев березы и лиственницы. На половине перегона лес кончился, и с боков открылись елани (поля), показались золотые кресты и куполы монастыря. День совсем разгулялся, облака разошлись, солнце поднялось выше леса, и мокрая листва, и лужи, и куполы, и кресты церкви ярко блестели на солнце. Впереди направо, в сизой дали, забелели далекие горы. Тройка въехала в подгороднее большое село Улица села была полна народом и русскими и инородцами в своих странных шапках и халатах. Пьяные и трезвые мужчины и женщины копошились и галдели около лавок, трактиров, кабаков и возов. Чувствовалась близость города.
Подстегнув и подтянув правую пристяжную и пересев на козлах бочком, так, чтобы вожжи приходились направо, ямщик, очевидно щеголяя, прокатил по большой улице и, не сдерживая хода, подъехал к реке, через которую переезд был на пароме. Паром был на середине быстрой реки и шел с той стороны. На этой стороне десятка два возов дожидались. Нехлюдову пришлось дожидаться недолго. Забравший высоко вверх против течения паром, несомый быстрой водой, скоро подогнался к доскам пристани.