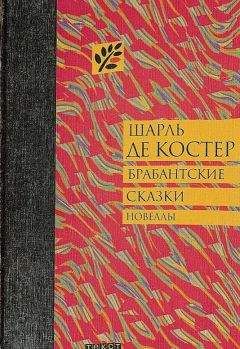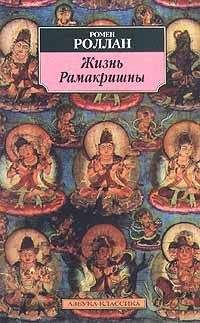— И еще кроме куска мяса, — ввернул Уленшпигель.
— Да, — согласился Ламме, — но где ты найдешь мясо на этом жалком суденышке? На королевских судах в мясоед четыре раза в неделю дают мясное и три раза — рыбное. Кстати о рыбе: клянусь богом, эта мочалка только зря распаляет мне кровь, мою бедную кровь, которая скоро вся вытечет из меня вместе с другой жидкостью. А у них там и пиво, и сыр, и похлебка, и винцо. Да, там есть все для угождения их чрева: и сухари, и ржаной хлеб, и пиво, и масло, и копченый окорок. Да, да, все: и вяленая рыба, и сыр, и горчица, и соль, и бобы, и горох, и крупа, и уксус, и постное масло, и сало, и дрова, и уголь. А нам недавно воспретили забирать чей бы то ни было скот — хоть мещанский, хоть поповский, хоть дворянский. Мы едим селедку и пьем дрянное пиво. Горе мне! Я всего лишен: и ласки жены, и доброго вина, и dobbelebruinbier’а, и сытной пищи. В чем же наша отрада?
— Сейчас тебе скажу, Ламме, — отозвался Уленшпигель. — Око за око, зуб за зуб. В Париже, в одном только Париже они истребили в Варфоломеевскую ночь{183} десять тысяч человек — загубили десять тысяч вольных душ. Сам король стрелял в народ. Пробудись, фламандец, берись за топор и позабудь о милосердии — вот она, наша отрада! Бей наших врагов испанцев, бей католиков, бей их повсюду! Перестань думать о жратве. Они отвозили и мертвых и живых к реке и целыми повозками сбрасывали в воду. И мертвых и живых — ты слышишь, Ламме? Девять дней Сена была багровая от крови, вороны тучами летали над городом. Была учинена страшная резня в Ла Шарите, Руане, Тулузе, Бордо, Бурже, Mo. Видишь стаи объевшихся собак, валяющихся около трупов? У них устали зубы. Вороны тяжело машут крылами — слишком много съели они человеческого мяса. Ты слышишь, Ламме, как стонут души погибших? Они вопиют к отмщению, молят о сострадании. Пробудись, фламандец! Ты все толкуешь о своей жене. Я не думаю, чтобы она тебе изменила. По-моему, она от тебя без ума; да, она все еще любит тебя, бедный мой друг. Она не была в толпе тех придворных дам, которые в ночь резни нежными своими ручками снимали с убитых мужчин одежду, дабы удостовериться, сколь велики у них принадлежности. И они смеялись, эти знатные дамы, знаменитые своею порочностью. Возвеселись же, сын мой, невзирая на рыбу и на дрянное пиво! Пусть после селедки во рту остается скверный вкус — гораздо хуже запах от подобных мерзостей. Убийцы еще не успели смыть с рук своих кровь, и вот они уже за пиршественным столом режут жирных гусей и предлагают парижским красоткам кто — крылышко, кто — лапку, кто — гузку. А ведь только что они этими же самыми руками трогали другое, холодное мясо.
— Я больше не буду роптать, сын мой, — молвил Ламме и встал. — Для свободных людей селедка — ортолан, дрянное пиво — мальвазия.
А Уленшпигель запел:
Да здравствует Гёз! Не плачьте, братья.
Среди разрухи и крови
Расцветает роза свободы.
Коли с нами бог, кто же нам тогда страшен?
Пока торжествует гиена,
Подходит время льва.
Удар — и у твари он брюхо вспорол.
Око за око, зуб за зуб. Да здравствует Гёз!
И песнь его подхватили Гёзы на всех кораблях:
Герцог обходится с нами не лучше.
Око за око, зуб за зуб.
Рана за рану. Да здравствует Гёз!
11
Темною ночью, когда в недрах туч громыхал гром, Уленшпигель сидел с Неле на палубе и говорил:
— Все огни у нас погашены. Мы — лисицы, мы ночью подкрадываемся к испанской дичи — к двадцати двум роскошным кораблям, на которых горят огни, и то не огни — то звезды, предвещающие им гибель. А мы мчимся навстречу им.
Неле сказала:
— Чародейная ночь! На небе темно, как в аду, зарницы сверкают, точно улыбка сатаны, вдали глухо ворчит гром, с резкими криками носятся чайки, светящимися ужами извиваются серебристые волны. Тиль, любимый мой, давай унесемся в царство духов! Прими порошок, навевающий сонные грезы!..
— А Семерых я увижу, моя дорогая?
И они приняли порошок, навевающий сонные грезы.
И Неле закрыла глаза Уленшпигелю, а Уленшпигель закрыл глаза Неле. И страшное зрелище им явилось.
Небо, земля, море были полны мужчин, женщин, детей, трудившихся, плывших, шагавших, мечтавших. Море их колыхало, земля их носила. И они копошились, точно угри в корзинке.
В небе сидели на престолах семь мужчин и женщин с яркими звездами во лбу, но лики их были смутны — Неле и Уленшпигель ясно видели одни лишь звезды.
Морские валы взлетали к самому небу, неся на вспененных своих гребнях бесчисленное множество кораблей, и под напором бушующих волн корабельные мачты и снасти сшибались, сцеплялись, ломались, разрывались. Затем один корабль отделился от других. Подводная его часть была из раскаленного железа. Нос его резал волны точно ножом. Вода под ним кричала от боли. На корме сидела и хихикала Смерть; в одной руке она держала косу, а в другой бич, которым она хлестала Семерых. Один из этих Семерых был человек худой, мрачный, надменный, молчаливый. В одной руке он держал скипетр, в другой — меч. Около него сидела верхом на козе багроволицая, быстроглазая девка в расстегнутом платье, с голой грудью. Она сладострастно тянулась к старому еврею, собиравшему гвозди, и к заплывшему жиром толстяку, которого она все время поднимала, так как он то и дело падал, а какая-то худая разъяренная женщина колотила их обоих. Толстяк сдачи не давал, а равно и багроволицая его подружка. Тут же ел колбасу монах. Еще одна женщина по-змеиному ползала по земле. Она кусала старого еврея за то, что гвозди у него ржавые, заплывшего жиром мужчину — за то, что он чересчур благодушен, багроволицую девку — за влажный блеск в ее глазах, монаха — за то, что он ел колбасу, худого мужчину — за то, что у него в руке скипетр. Немного погодя все они передрались.
Тот же час на море, в небе и на земле возгорелась лютая битва. Полил кровавый дождь. Корабли были порублены топорами, расстреляны из пушек и аркебуз. По воздуху в пороховом дыму носились обломки. На суше — одна медная стена на другую — шли войска. Пылали города, деревни, посевы, всюду слышались вопли, всюду лились слезы. Внезапно на фоне огня отчетливо вырисовывался гордый силуэт высокой кружевной колокольни, а мгновенье спустя она падала, как срубленный дуб. Черные всадники, вооруженные пистолетами и мечами, похожие издали на муравьев, — такая была их тут гибель, — избивали мужчин, женщин, детей. Иные, пробив лед, живыми бросали в прорубь стариков. Одни отрезали у женщин груди и посыпали раны перцем, другие вешали на печных трубах детей. Те, кто устал убивать, насиловали девушек и женщин, пьянствовали, играли в кости, погружали окровавленные пальцы в груды награбленного золота.
Семь звездоносцев кричали:
— Пожалейте несчастный мир!
А семь призраков хохотали. И хохот их был подобен клекоту тысячи орланов. А Смерть размахивала косой.
— Слышишь? — сказал Уленшпигель. — Эти хищные птицы охотятся на несчастных людей. Они питаются маленькими пташками, простыми и добрыми.
Семь звездоносцев кричали:
— Где же любовь? Где справедливость? Где милосердие?
А семь призраков хохотали. И хохот их был подобен клекоту тысячи орланов. А Смерть бичевала их.
А корабль их шел по волнам, надвое разрезая корабли, лодки, мужчин, женщин, детей. Над морем гулко раздавались стоны жертв, моливших:
— Сжальтесь над нами!
А красный корабль шел по телам, меж тем как призраки хохотали и клекотали орлами.
А Смерть, хихикая, пила воду с кровью.
А затем корабль скрылся во мгле, битва кончилась, семь звездоносцев исчезли.
И Уленшпигель и Неле ничего уже больше не видели, кроме темного неба, бурных волн, черных туч над светящимся морем да красных звезд, мерцавших совсем-совсем близко.
То были огни двадцати двух кораблей.
Хор грома и моря рокотал на просторе.
И тогда Уленшпигель осторожно ударил в колокол и крикнул:
— Испанцы! Испанцы! Держать на Флиссинген!
И крик этот был подхвачен всем флотом.
А Неле Уленшпигель сказал:
— Серая пелена распростерлась над небом и морем. Огни горят тускло, встает заря, ветер свежеет, брызги взлетают выше палубы, льет дождь, но скоро перестанет, вот уже всходит лучезарное солнце и золотит гребни волн — это твоя улыбка, Неле, свежая, как утро, ласковая, как солнечный луч.
Идут двадцать два корабля. На кораблях Гёзов гремят барабаны, играют свирели. Де Люме кричит:
— За принца, в погоню!
Вице-адмирал Эвонт Питерсен Ворт кричит:
— За принца Оранского, за адмирала — в погоню!
На всех кораблях — на «Иоанне», «Лебеде», «Анне-Марии», «Гёзе», «Соглашении», «Эгмонте», «Горне», «Виллеме Звейхере», «Вильгельме Молчаливом» — кричат капитаны: