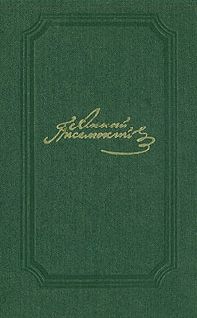– Никого.
– Нет, ты лжешь, что никого: у них был Бахтиаров; бывает каждый день, только что не ночует: вот что!
Павел тут только начал догадываться, в чем дело.
– Это приятель Михайла Николаича, – сказал он.
– Нет, не приятель; он скорей злодей его: он злодей всего нашего семейства. Прекрасно! Михайло же Николаич виноват!.. Сваливайте на мужа вину: мужья всегда виноваты! Ты и этого не понимаешь.
– Мне нечего понимать.
– Нет, ты должен понимать: ты брат.
– Что же мне такое понимать?
– А то понимать, что сестра твоя свела интригу.
– Тетушка…
– Нечего «тетушка». Ты думаешь – мне легко слышать, как целый город говорит, что она с этим Бахтиаровым в интриге, и в интриге мерзкой, скверной.
Павел весь вспыхнул.
– Это клевета! Прошу вас, тетушка, не говорите этого при мне.
– Нет, я буду при тебе говорить: ты должен действовать.
– Мне нечего действовать: это сплетни подлых людей.
– Ты не можешь этого сказать: это говорили мои хорошие знакомые, это говорят везде… люди постарее, посолиднее тебя; они жалеют тут меня, зная мое родственное расположение, да бедного Михайла Николаича, которого спаивают, обыгрывают, может быть, отправят на тот свет. Вот что говорят везде.
– Тетушка, пощадите сестру! – произнес Павел почти умоляющим голосом.
– Нет, мне нечего ее щадить; она сама себя не щадит, коли так делает; я говорю, что чувствую. Я было хотела сейчас же ехать к ней, да Михайла Николаича пожалела, потому что не утерпела бы, при нем же бы все выпечатала. А ты так съезди, да и поговори ей; просто скажи ей, что если у них еще раз побывает Бахтиаров, то она мне не племянница. Слышишь?
– Я не поеду, тетушка.
– Как тебе ехать? Я наперед это знала: давно уж известно, что ты никаких родственных чувств не имеешь, что сестра, что чужая – все равно; в тебе даже нет дворянской гордости; тебе ведь нипочем, что бесславят наше семейство, которое всегда, можно сказать, отличалось благочестием и нравственностью.
– Это одна клевета.
– Да за что же вы меня-то мучите, за что же я-то терзаюсь? Вы, можно сказать, мои злодеи; в ком мое утешение? О чем я всегда старалась? Чтобы было все прилично… хорошо… что же на поверку вышло? Мерзость… скверность… подлость… Я девок своих за это секу и ссылаю в скотную. Бог с вами, бог вас накажет за ваши собственные поступки. Съездить не хочешь! Лентяй ты, сударь, этакий тюфяк… ты решительно без всяких чувств, жалости ни к кому не имеешь!
В продолжение этой речи голос Перепетуи Петровны делался более и более печальным, и, наконец, она начала всхлипывать.
– Нет, видно, мне в жизни утешения ни от чужих, ни от родных: маятница на белом свете; прибрал бы поскорее господь; по крайней мере успокоилась бы в сырой земле!
Перепетуя Петровна очень расстроилась.
Вошла горничная и сказала, что больная проснулась.
– Не сказывайте ей обо мне, – говорила Перепетуя Петровна, – я не могу ее видеть, мою голубушку; страдалицы мы с ней, по милости прекрасных детушек! Я сейчас еду…
И действительно уехала, не простясь даже с Павлом.
Перепетую Петровну возмутила Феоктиста Саввишна. Она рассказала ей различные толки о Лизавете Васильевне, носившиеся по городу и по преимуществу развиваемые в дружественном для нее доме, где прежде очень интересовались Бахтиаровым, а теперь заметно на него сердились, потому что он решительно перестал туда ездить и целые дни просиживал у Масуровых.
Феоктиста Саввишна, поговорив с Перепетуей Петровной, вздумала заехать к Лизавете Васильевне посидеть вечерок и собственным глазом кой-что заметить. Она непременно ожидала встретить там Бахтиарова; но Лизавета Васильевна была одна и, кажется, не слишком обрадовалась гостье. Сначала разговор шел очень вяло.
– А вы не выезжаете? – спросила Феоктиста Саввишна.
– Нет, я не выезжала эти дни… Голова болит.
– Время такое, насморки везде. А я так сегодня целый день не бывала дома; бездомовница такая сделалась, что ужас; теперь вот у вас сижу, после обеда была у вашей тетушки… как она вас любит! А целое утро и обедала я у Кураевых… Что это за прекрасное семейство!
– А вы знакомы?
– Господи помилуй! Мало что знакома: я, можно сказать, дружна, близка к этому семейству.
– Которая из дочерей у них лучше? – спросила Лизавета Васильевна.
– Ах, Лизавета Васильевна, я просто не моту вам на это отвечать! Они обе, можно сказать, как два амура или какие-нибудь две белые голубки.
– Которая у них брюнетка?
– Старшая.
– Она мне лучше нравится.
– Да, это Юлия Владимировна: прекрасная девица. Дай только бог ей партию хорошую, а из нее выйдет превосходная жена; наперед можно сказать, что она не огорчит своего мужа ни в малейших пустяках, не только своим поведением или какими-нибудь неприличными поступками, как делают в нынешнем свете другие жены. – Последние слова Феоктиста Саввишна произнесла с большим выражением, потому что, говоря это, имела в виду кольнуть Лизавету Васильевну.
– Она очень нравится одному молодому человеку, – сказала та, не поняв последних слов Феоктисты Саввишны.
– Право? Кому же это?
– Этот молодой человек видел ее раза два. Он говорит, что она чудо как хороша собой, грациозна и бесподобно поет.
– Ай, батюшки! Кто же это такой? – спросила Феоктиста Саввишна, и у ней уже глаза разгорелись, как будто дело шло об ее собственной красоте или о красоте ее дочери.
– Он меня очень просил, – продолжала Лизавета Васильевна, – чтобы узнать стороной, как о нем думают у Кураевых и что бы они сказали, если бы он сделал предложение.
– Ах, боже мой! Кто бы это был? – сказала Феоктиста Саввишна, еще более заинтересованная. – Постойте, я ведь догадываюсь: не Бахтиаров ли?
Лизавета Васильевна покраснела.
– Это с чего вам пришло в голову? С какой мне стати говорить за него?
– Ну, я думала, так, по дружбе; он так часто бывает у вас.
– Он часто бывает у моего мужа. Нельзя ли вам, Феоктиста Саввишна, переговорить с Кураевыми?
– Да про кого, матушка, поговорить-то: я еще не знаю, про кого.
– Нет, вы наперед дайте слово, что переговорите.
– Извольте; про кого же?
– Про моего брата.
– Про Павла Васильича? Не может быть!
– Отчего же не может быть?
– Нет, вы шутите!
– Вовсе не шучу.
– Да как же? Ведь он еще не служил.
– Что ж такое! У него уж три чина.
– Да кто их дал?
– Царь дал. Он кандидат.
– Ей-богу, не знаю… Позвольте, мне от своего слова отпираться не следует: поговорить поговорю; конечно, женихи девушке не бесчестье; только, откровенно вам скажу – не надеюсь. Главное дело – нечиновен. Кабы при должности какой-нибудь был – другое дело… Состояние-то велико ли у них?
– У него своих пятьдесят душ, да после тетки еще достанется.
Феоктиста Саввишна размышляла. Она была в чрезвычайно затруднительном положении: с одной стороны, ей очень хотелось посватать, потому что сватанье сыздавна было ее страстью, ее маниею; половина дворянских свадеб в городе началась через Феоктисту Саввишну, но, с другой стороны, Бешметев и Кураева в голове ее никоим образом не укладывались в приличную партию, тем более что она вспомнила, как сама она невыгодно отзывалась о Павле и какое дурное мнение имеет о нем невеста; но мания сватать превозмогла все.
– Поговорю, Лизавета Васильевна, с большим удовольствием поговорю; я так люблю все ваше семейство! Мне очень будет приятно устроить это для вас. Вы говорите: у него пятьдесят душ и три чина?
Разговор этот прервался приходом бледного и расстроенного Павла. Лизавета Васильевна очень ему обрадовалась.
– Вот и он! Легок на помине. Как я тебя давно не видала, Поль, – говорила она, целуя брата в лоб и глядя на него, – но что с тобой? Чем ты расстроен?
Павел ничего не отвечал и, почти не кланяясь Феоктисте Саввишне, сел поодаль; Лизавета Васильевна долго вглядывалась в брата и сама задумалась. Феоктиста Саввишна, внимательно осмотрев Павла, начала с ним разговаривать, вероятно, для узнания его умственных способностей; она сначала спросила его о матери, а потом и пошла допытываться – где он, чему и как учился, что такое университет, на какую он должность кандидат; и вслед за тем, услышав, что ученый кандидат не значит кандидат на какую-нибудь должность, она очень интересовалась знать, почему он не служит и какое ему дадут жалованье, когда поступит на службу.
Павел говорил очень неохотно, так что Лизавета Васильевна несколько раз принуждена была отвечать за него. Часу в восьмом приехал Масуров с клубного обеда и был немного пьян. Он тотчас же бросился обнимать жену и начал рассказывать, как он славно кутнул с Бахтиаровым. Павел взялся за шляпу и, несмотря на просьбу сестры, ушел. Феоктиста Саввишна тоже вскоре отправилась и, еще раз переспросив о состоянии, чине и летах Павла, обещалась уведомить Лизавету Васильевну очень скоро.