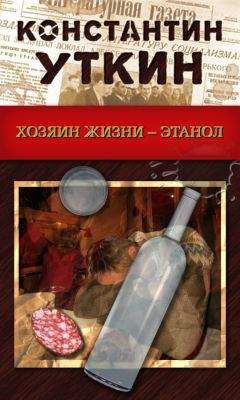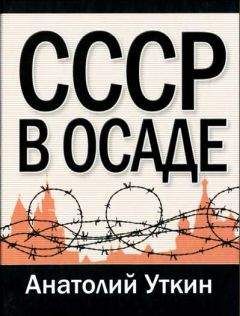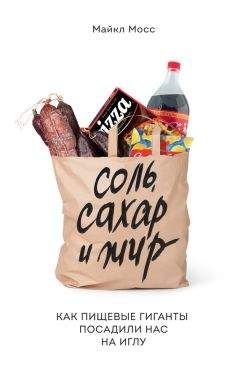Хозяин уже в те времена присутствовал рядом – но пока еще под маской верного друга, всегда готового прийти на помощь в трудную минуту. Он развязывал язык подростку, густо и жарко краснеющему от любого прикосновения к девушке; он поднимал его в собственных глазах, ставя на одни уровень с более взрослыми и более умными людьми.
Правда, много мы тогда и не пили – ну не было у нас возможностей сегодняшнего дня. Пивная вакханалия на телевизионных экранах не могла привидеться даже в страшном сне; пиво считалось (да, собственно говоря, и было) напитком окончательно опустившихся людей без будущего.
Горбачев уже вырубил начал вырубать виноградники; матушка уже подумывала о самогонном аппарате. Детские розовые щеки и несерьезный пух над моими губками бантиком не позволяли изображать из себя восемнадцатилетнего и требовать выпивку на законных основаниях. А в большинстве магазинов продавщицы блюли букву закона и не продавали детям яд.
Но мы стремились к взрослой жизни, мы хотели так же планомерно и легально убивать себя, как и они.
Хотя я тогда уже чувствовал заключенную в бутылке разрушительную силу. Вспоминается одна пьянка с Володей Матушевичем. Мы долго искали выпивку; в одном магазине нам не продали, да еще и едва по шее не накостыляли; в другом продавщица уныло сидела в полудреме не фоне совершенно пустых полок; наконец то ли в четвертом, то ли в пятом по счету очаге культуры нам подфартило. Володя, светясь, как майская параша, выскочил из магазина, размахивая намертво зажатой в кулаке бутылкой аперитива. Аперитив «Степной» с парящим на этикетке орлом. Потом мы долго искали место, где нас бы не достали молодцы с красными околышами, и наконец уселись в душных зарослях на берегу реки Сходни. (Все это происходило в Тушино, где, как потом выяснилось, подрастал и начинал пить мой алкогольный друг Лесин.)
Сбылась мечта идиота – какие – то деревья, заросли полыни по пояс, утоптанная тропинка, мокрая газета на полусгнившем бревне, даже стакан – протертый песком, сполоснутый в воде и заигравший хрустальным блеском. Закуска – легендарный плавленый сырок и четвертинка черного хлеба. Но оказалось, что аперитив вместо удали и бесшабашности вливает в жилы только степную тоску и томление. От его горечи тут же началась изжога; естественно, мы, как претенденты на ущербную жизнь, много курили. У Володиных сигарет было подобие фильтра из бумаги, у моей же «Астры» не было ничего. Кроме отломанного куска спички, который я загонял в сигарету – тогда табак не так лез в рот.
И вот сидим мы в сырости и духоте, заглатываем, морщась, горькое пойло, втягиваем в грудь вонючий дым, молчим – потому что противно даже разговаривать. А прямо перед нами, на играющей бликами ряби, тренируются байдарочники на одиночках. Взлетают блестящие лопасти весел, парни шутят, смеются, а голые мускулистые тела блестят и лоснятся на солнце. Помню, как до боли мне хотелось туда, к ним, на водный простор с легким ветерком, управлять верткой байдаркой и так же, как они, смеяться от мускульной радости …
Володя говорил какие-то излюбленные алкоголиками пошлые банальности, вроде – кто не курит и не пьет, то здоровеньким умрет – а я, насколько помню, вообще молчал и просто любовался спортсменами.
То есть стремление к здоровой – а по сути, к просто нормальной жизнь было всегда, но за руку меня уже держал Хозяин. И поддерживал, как мне казалось, в трудную минуту, и направлял, показывал, куда идти…
В училище я занимался примерно тем же, что и в школе – то есть лоботрясничал и раздолбайствовал. На уроках мы делали одно из двух – или бездельничали шумно, с криками и гамом, либо – если преподаватель был суров и уже познакомил наши бока своими кулаками – тупо сидели и думали о своем. Началась практика на стройке. Забавно, но стройка находилась прямо напротив дома, где жила Катя Преображенская, руководительница кружка при Дарвиновском музее. Так что я часто, отработав свое, шел не домой, а к ней в трехкомнатную квартиру, где всегда собиралась на картошку шумная толпа.
На стройке мое знакомство с Хозяином стало уже не шапочным, а более близким. Ничего удивительного – глупые лбы из профтехучилища стремились взрослых работяг перещеголять во всем. Мы даже матерились так, что один раз даже старик-электрик не выдержал и в доступных ему приличных выражениях заорал «Да что же у вас, трам тарарам, ни стыда ни совести, вы же хлеб, тарарам-там там, едите, и так ругаетесь, трах-тарарах– тах– тах…»
Видимо, мы ему ответили что-то еще более приличное, так что другие работяги старика едва удержали…
Самым запоминающимся персонажем был Шурик – мужик лет сорока с густыми пшеничными усами, обширной лысиной, хитрыми серыми глазами, крепким упитанным телом – рассмотрел, когда на крыше под палящим солнцем долбили дыры для светильников. Два пальца на его правой руке – мизинец и безымянный – не сгибались. Он был хитер, многоопытен, подвижен и говорлив. Да и ругался не стандартно, в отличие от большинства, которые через каждое слово вставляли два слова – на букву х и на букву б…некоторые из его перлов помню до сих пор – «чтоб у тебя х… на лбу вырос», «чтоб тебе сыром срать три года», «сын бешеной п…ы», «анчутка х….ва» …
Если мы запарывали какую-либо работу, он вздыхал, надвигая на выпуклый лоб вязаную шапочку… «Да уж… стране нужны герои, п…да рожает дураков…» Когда я пробил слишком глубокую дыру под розетку, Шурик попенял мне так – «Что ты сделал, ну что ты сделал? Это ж тебе не м…а, чтобы проваливаться до самой жопы…»
Стройка находилась в Строгино – а самым культурным место в округе была деревня Мякинино. К деревенскому магазину вела широкая, уверенная, утоптанная тропа, по которой с утра и до половины шестого спешили работяги. За прилавком стоял сухонький старичок, который объявлял каждому новому покупателю со стройки – Все, ребятки, водка кончилась, только портвешок…
Или наоборот, в зависимости от ассортимента и наличия. Мы исправно бегали туда-сюда, и с нами старичок уже здоровался и иной раз припрятывал бутылку…
Хозяин входил в силу… помню, не из чего было водку пить – Шурик, светлая голова, свернул у лампочки цоколь, и все тянули из стеклянной колбочки. Как-то раз после работы скинулись, купили ноль-семь портвейна «Кавказ» – мое поколение помнит это пойло – но пить на улице было опасно, менты стояли на каждом углу.
Шурик почесал в раздумье лысину и вдруг пошел куда-то быстро и уверенно. Мы, желторотики, потянулись за ним – и попали… в общественный туалет. От запаха слезились глаза, но мы мужественно зашли в подсобку – комнатку между мужским и женским отделениями, где в перерывах коротала время уборщица. Она предоставила стакан и на закуску – пару твердокаменных баранок. Мы втянули в себя содержимое граненого, перемололи молодыми зубами баранки…Подсобка оказалась бойким местом – тут же зашли еще трое жаждущих, которые поделились с нами, потом они свалили, и образовались еще два. Уборщица прилегла на кушетке, забив на обязанности, мы уже по-хозяйски принимали гостей. В головах шумело, все казались если не братьями, то по крайней мере друзьями…
Все преимущества нашего места пришлось оценить через час – когда в двери мелькнул красный околыш. Мы подхватились и рванули на волю, под оглушительный визг сидящих с заголенными задами женщин…
Блюстители порядка на такой подвиг, по-видимому, не решились.
А оставшееся время посвящал нашим замечательным ботсадовским девочкам. Довольно скоро я познакомился с их начальством – она сквозь пальцы смотрела на странного парня, который добровольно приезжает пилить, косить и делать прочую черновую садовую работу.
Помниться, как всей компанией мы ездили по бардовским концертам – прорывались через черный ход или окна на Городницкого, который выдал контрамарки очаровавшим его девочкам и, скрипя сердца, четырем сопровождавшим их лбам, или на Окуджаву. С Булатом Шалвовичем я столкнулся за кулисами. Я поздоровался и он неожиданно протянул мне руку – я пожал, совершенно ошалев от такой чести, сухую ладонь.
Исполнители были в основном старые, прошедшие школу подполья советских времен. Митяев еще не начал свой слащавый попсовый взлет и гимном авторской песни была казавшаяся вечной песня «Возьмемся за руки, друзья».
Хотя, конечно, Хозяин присутствовал и в той, еще достаточно чистой компании. То Боря Пьянков надерет дикого винограда в саду и поставит его бродить, то Настя стащит колбочку спирта в своей лаборатории и Ира, попробовав его на вкус с чайной ложечки, посмакует и определит – «ректификат».
Но все же всей полнотой власти там обладал табак. Все наши посиделки были окутаны сизыми клубами; если компания собиралась у кого-либо на квартире, то частенько стен не было видно и щипало глаза. Одна сигарета прикуривалась от другой, пальцы у меня приобрели несмываемый коричневый цвет. О каком-либо спорте в те года и говорить не приходилось – ходить на лыжах уж не давало крепко засевшее в груди удушье, а каких-либо тяжестях вроде гири и гантелей я не помышлял, полагая, что и так хорош.