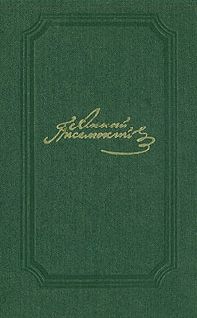Павел с удивлением взглянул на зятя; Лизавета Васильевна только улыбнулась: она, видно, привыкла к подобным эффектным выходкам своего супруга.
– У тебя, Мишель, всегда есть привычка прибавлять по два нуля, – заметила она ему.
– Вот прекрасно! Да ты-то почем знаешь? Когда ты приехала, я их давно проиграл. Много, черт возьми, я в жизнь мою проиграл!
– А вчера много ли проиграл? – спросила Лизавета Васильевна.
Масуров очень сконфузился.
– Я вчера не проиграл, – отвечал он, запинаясь.
– Где же три-то тысячи?
Масуров покраснел и ничего не отвечал; он только мотал головой жене, показывая глазами на брата, который сидел в задумчивости.
– Нечего кивать головой-то, – говорила Лизавета Васильевна, – при брате я могу говорить все. Ну, скажи, Поль, хорошо ли это в один вечер проиграть три тысячи рублей?
– Очень нехорошо! – начал Павел. – Женатому человеку не следует рисковать не только тысячами, но даже рублями.
Говоря это, он, видимо, делал над собой большое усилие.
Михайло Николаич переминался.
– Не стыдно тебе? – сказала Лизавета Васильевна.
– Ну, душка, извини, – говорил Масуров, подходя к жене, – счастие сначала ужас как везло, а под конец как будто бы какой черт ему нашептывал: каждую карту брал, седая крыса. Ты не поверишь: в четверть часа очистил всего, как липку; предлагал было на вексель: «Я вижу, говорит, вы человек благородный».
– Это еще лучше! Сколько же ты по векселю-то проиграл?
– Ей-богу, душка, ни копеечки. Что я? Сумасшедший, что ли? Ты думаешь, я не понимаю, – что братец не скажет! – я семейный человек, мне стыдно это делать. Вот как три тысячи проиграл, так и не запираюсь: действительно проиграл. Ну, прости меня, ангельчик мой Лиза, ей-богу, не стану больше в карты играть: черт с ними! Они мне даже опротивели… Сегодня вспомнил поутру, так даже тошнит.
– Немудрено после такого проигрыша, – заметил Павел.
– Ну, душка моя, – продолжал Масуров, ласкаясь к жене, – скажи, простила меня? Дай ручку поцеловать!
Лизавета Васильевна, кажется, мало верила в раскаяние своего мужа.
– Пустой ты человек! – сказала она, отнимая у него свою руку.
– Лизочка, душка моя! Ну, дай хоть мизинчик поцеловать! Хочешь, я встану на колени? – И он действительно встал перед женой на колени. – Павел Васильич, попросите Лизу, чтобы она дала мне ручку.
Павел молчал; ему, видимо, неприятна была эта сцена. Лизавета Васильевна глядела на мужа с чувством сожаления, очень похожим на презрение, но подала ему руку, которую тот звонко поцеловал.
– Важно! Гуляй теперь: жена простила! – вскричал Масуров, поднявшись на ноги и потирая руки. – Ну, теперь, душка, вели же нам подать хересок и закусить… О милашка! Славная у меня, черт возьми, жена! – продолжал он, глядя на уходящую Лизавету Васильевну. – Я ведь ее очень люблю, даже побаиваюсь.
– Вам нужно поосторожнее издерживать деньги, – начал Павел, когда сестра ушла, – вы небогатый и семейный человек.
– Да ведь, братец, я, ей-богу, даже очень скуп: спросите хоть жену; вчера вот только, черт ее знает, как-то промахнулся. Впрочем, что ж такое? У меня еще прекрасное состояние: в Орловской губернии полтораста отлично устроенных душ, одни сады дают пять тысяч годового дохода.
– Мне сестра говорила, – возразил Павел, не могши снести этой лжи, – что у вас имение осталось только в здешней губернии.
– Вот пустяки-то, так уж пустяки! – вскричал Масуров, нисколько не сконфузившись. – Верьте ей: она ужасная притворщица!
Подали закуску.
– Выпьемте-ка, любезный братец, по стаканчику хереску в честь нашего знакомства.
От стаканчика Павел отказался и выпил только рюмку; но Масуров выпил целый стакан.
– Послушайте, братец, – начал он, садясь около Павла, – что, если я вас о чем попрошу, исполните?
– Что такое?
– Нет, скажите наперед, что вы не откажете.
– Я не знаю, в чем еще состоит просьба.
– Нет ли у вас рублей двухсот взаймы? Я так издержался, что, ей-богу, даже совестно! Только жене, ради бога, не говорите, – продолжал он шепотом, – она терпеть этого не может; мне, знаете, маленькая нуждишка на собственные депансы.[1]
Мороз пробежал по коже Павла; он почувствовал полное отвращение к зятю.
– Я не имею денег, – отвечал он сухо.
– Ах, черт возьми, это скверно! Не знаете ли по крайней мере у кого занять? – продолжал не унывавший Масуров. – Покутили бы, канальство, вместе!
Павел на это ничего не ответил, но молча встал и пошел было в соседнюю комнату.
– Куда это вы? – спросил его Масуров.
– Я ищу сестру; хочу проститься.
– Посидите! Она сейчас выйдет. Вы, видно, не охотники пошалить? А еще… – Продолжение этой речи было прервано приходом Лизаветы Васильевны.
– Прощай, сестрица, – сказал Павел, не могши подавить в себе неприятного чувства.
– Обедай у нас, Поль!
Павел хотел было отказаться, но ему жаль стало сестры, и он снова сел на прежнее место. Через несколько минут в комнату вошел с нянькой старший сын Лизаветы Васильевны. Он, ни слова не говоря и только поглядывая искоса на незнакомое ему лицо Павла, подошел к матери и положил к ней головку на колени. Лизавета Васильевна взяла его к себе на руки и начала целовать. Павел любовался племянником и, кажется, забыл неприятное впечатление, произведенное на него зятем: ребенок был действительно хорош собою.
– Поленька! Кто это сидит? – спрашивала его Лизавета Васильевна, указывая на брата.
Ребенок глядел на Павла и молчал.
– Постой, я тебе на ушко шепну, – продолжала мать и, пригнув его головку, что-то ему шепнула.
– Кто же? – снова повторила она, указывая на брата.
– Дада, – отвечал шепотом ребенок.
– Полька! Поди сюда! – кричал Масуров, видно, желавший тоже приласкать сына.
Ребенок посмотрел на него и не думал сходить с коленей матери.
– Поди сюда, говорят тебе, – повторил Масуров, протягивая руки. – Лиза, душка моя, пошли его ко мне.
– Поди к отцу, – сказала Лизавета Васильевна, ссаживая Поля с коленей.
Ребенок нехотя начал переходить комнату; но только что подошел к папеньке, как сейчас же заревел: Михайло Николаич, по обыкновению, ухватил его пухленькую щечку между пальцами и начал трясти.
– Экий какой! Сейчас и заплакал!
Лизавета Васильевна молча встала и взяла опять сына к себе на колени; дитя тотчас же замолчало.
Обед прошел обыкновенным своим порядком. Павел и Лизавета Васильевна мало ели и больше молчали; но зато много ел и много говорил Михайло Николаич. Он рассказывал шурину довольно странные про себя вещи; так, например, он говорил, что в турецкую кампанию какой-то янычар с дьявольскими усами отрубил у него у правой ноги икру; но их полковой медик, отличнейший знаток, так что все петербургские врачи против него ни к черту не годятся, пришил ему эту икру, и не его собственную, которая второпях была затеряна, а икру мертвого солдата. О своей физической силе и охотничьих своих способностях он тоже отзывался не очень скромно: с божбой и клятвою уверял он своих слушателей, что в прежние годы останавливал шесть лошадей, взявшись обеими руками за заднее каретное колесо, бил пулей бекасов и затравливал с четырьмя борзыми собаками в один день по двадцати пар волков.
Павел ушел от сестры с грустным и тяжелым чувством. «Она более чем несчастна, – говорил он сам с собою. – Добрая, благородная! И кто же ее муж? Кто этот человек, с которым суждено ей провести всю жизнь? Он мот, лгун, необразованный, невежа и даже, кажется, низкий человек!»
С наступлением зимы губернский город, где происходили описываемые мною происшествия, значительно оживился: составились собрания и вечера. Общество, как повествует предание, было самое блистательное, так что какой-то господин, проживавший в том городе целую зиму, отзывался об нем, по приезде в Петербург, в самых лестных выражениях, называя тамошних дам душистыми цветками, а все общество чрезвычайно чистым и опрятным. Все веселились, даже Перепетуя Петровна ездила в два – три дома играть в преферанс. Родным племянником она была очень недовольна. «Что это за молодой человек, – говорила она, – скажите на милость? Не хочет показаться в общество; право, в нем ничего нет дворянского-то, совершенный семинарист. Вон посмотришь на другую-то молодежь: что это за ловкость, что это за вежливость в то же время к дамам, – вчуже, можно сказать, сердце радуется; а в нем решительно ничего этого нет: с нами-то насилу слово скажет, а с посторонними так и совсем не говорит. Чего у него недостает? Платье бесподобное, фрак отличнейший – самого тонкого сукна, выезд хороший; слава богу, после покойника-то одних городовых саней осталось двое; мать бы ему никогда в этом не отказала, по крайней мере был бы на виду у хороших людей; нет, сударь ты мой, сидит сиднем, в рождество даже никого не съездил поздравить». Но зато везде являлся и всех поздравлял со всевозможными праздниками другой ее племянник, Михайло Николаич Масуров. Он очень успел, по словам тетки, заискать в обществе, а все потому, что ласков и обходителен; и к ней он тоже был очень ласков. Она начинала к нему чувствовать более и более родственного расположения. «Что он мне? – говорила она. – Ведь почти посторонний человек, а лучше родного-то племянника, ей-богу! Приедет, расскажет, где был, что видел и куда опять поедет: прекраснейший человек!»