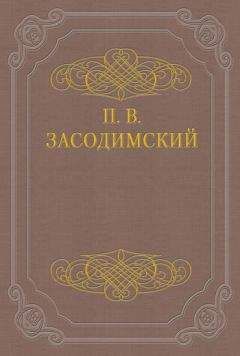– От этих делов не будешь богата, а будешь только горбата! – говаривала не раз Катерина Степановна.
В замужестве для Насти мать особенного благополучия не чаяла, по выдавала ее просто потому, что лучшей участи для дочери никак не могла придумать. «Хошь достаточек будет да обеспечение какое ни на есть… Все-таки свой угол…» – думала она, снаряжая дочь к венцу, Никита же знал только одно, что долго ли, коротко ли, рано или поздно, а Настю все-таки придется в церковь гнать…
Настя же сильно тосковала, не внимая ни внушительным доводам, ни строгим уговорам отца, ни слезливым увещаниям матери. Настя уже не молила никого, не молилась никому, ни на что не жаловалась… Писарь знал об ее горе и не шел спасать ее, даже наведаться об ней не пришел ни разу вечерком к воротам, как, бывало, прежде…
Да любил ли ее, полно, писарь-усач? Не поиграть ли, в самом деле, только хотелось ему с бедной девкой? Не права ли мать была, обзывая его «шерамыжником» и «пустомелей»?.. И припомнилось с чего-то Насте, как однажды красивый писарь читал ей какой-то старый, рваный песенник без начала и конца, От серых, засусленных листков которого сильно припахивало казармами, махоркой и гнилью. Писарь читал:
Нет! не на радость, друг милый,
Новые дни к нам придут;
Верно, не здесь – за могилой
Радости наши цветут…
С большим чувством, по-своему, прочел тогда писарь эти четыре жалобные строчки. «Да, – думалось теперь невольно девушке, – видно, не здесь зацветут мои радости!..» Верно угадала Катерина Степановна характер писаря, называя его «шерамыжником»; не менее верно угадала она и характер его ухаживанья за Настей: писарь действительно олицетворял собою одну пошлость.
Дослужившись до нашивок и сгибаясь перед офицерством; он шибко задирал нос перед низшими. Он, вышедший из мужицкой среды, ругал деревенских людей «вислоухими мужланами» и при случае не прочь был потрепать за бороду какого-нибудь смирного, забитого «дядю Пахома».
Писарь-выскочка жениться действительно подумывал на купчихе-вдове, а в Насте он просто видел цветочек, который можно было сорвать; а затем, повертевши в руках, забросить подальше, с глаз долой…
Так, или почти так, начинала думать и Настя, припоминая серые хитрые глазки усатого писаря, покрывавшиеся маслянистою влагой в те минуты, как писарь играл и ласкал Настю. А все-таки, вопреки рассудку, он был ей милее грубого, неприглядного Федьки… И не для вида, не во исполнение старого обычая плакала Настя, когда подруги водили ее в баню и расплетали ее длинную косыньку; искренни были слезы Насти, когда раздавались над нею заунывные песенки подружек. По ее осунувшемуся личику, да и по заплаканным глазам, можно было догадаться, что не с радостью сбиралась девушка под венец. Но она держала себя, как и всегда, так тихо, так спокойно, что можно было подумать, будто в ее душе спокойствие царствует, будто под безмятежной оболочкой все тишь, да гладь; да божья благодать.
Под одною же кровлей с Настей страдало другое живое существо, страдало так же искренно и от души, как и Настя. Хозяйская работница давно и страстно была влюблена в Федора Гришина, но не могла добиться взаимности и изнывала от своих напрасных желаний. Женитьба Федора окончательно подрезывала крылышки ее игривым мечтам и болезненно отдавалась в ее пылком сердце… Не так смирно, не так покорно, как Настя, склоняла свою голову Пелагея. Моя хозяйскую кадушку из-под капусты, Палаша с ненавистью прислушивалась в сенях к доносившемуся до нее пенью снизу, из квартиры столяра. Злость и бессильная ревность ее разбирали до истерического смеха, до слез… Как она лихорадочно, принужденно-весело смеялась над старушонкой, когда на ту напустилась во дворе собака и рвала ей подол! Старушонка визжала, отмахивалась клюкой от сердитого пса и, запнувшись, повалилась на груду кирпичей… А Палаша, забросив на плечо грязную тряпицу и прислонив кадушку к стене, смеялась и смеялась, стоя у окна… С попадьей-хозяйкой она поругалась за обедом из-за щей… Перетирая после обеда посуду, Палаша так; ловко стукнула миской об стол, что миска разлетелась вдребезги. Попадья излила на работницу целый поток упреков и нравоучений, а в заключение пообещала вычесть из двухрублевого Палашиного жалованья цену разбитой миски.
– Вычитайте хоть все! Берите! Мне что!.. Обижайте, обижайте! Наживайтесь сиротскими денежками… Мне что! Давайте расчет, да вот и все… Меня к Кукушкиным давно зовут… Уйду, да и кончено!.. – с жаром огрызалась Палаша. – «Вычту, вычту!», – передразнивала она попадью, увернувшуюся на ту пору за дверь. – Ишь ты! Вычитать-то больно охоча…
Раскраснелась Палаша, с остервенением вытирая кухонный стол, и ругала попадью и поповну-стрекозу; но злоба ее относилась не к столу и не к хозяевам, но к Федору и к невесте его – Настеньке, «подлой лицемерке». «Ничего и не скажет, молчит себе, ровно не ее и замуж выдают! – мысленно ругалась Палаша… – Отобью, боишься, что ли? Храни, храни свое золото…» – смеялась она, но очень дурной выходил у нее смех… Не смогла Палаша устоять от искушения – сошла-таки вечером вниз посмотреть на жениха с невестой…
– Сердечушко-то, Палаша, больно у меня тоскует! Так-то уж тоскует, что просто терпеньица не стало! – говорила шепотом своей подруге невеста, утирая глаза. – Палаша ты моя милая, что же делать-то мне?..
– Ну, ладно! Погоди, Настя! – отвечала ей подруга, едва сдерживая злую улыбку, так и просившуюся на уста. – Погоди, матка! Слюбится ужо!..
– Какое уж «слюбится»! И не говори лучше… – уныло перебила невеста.
Жених между тем, в пестрой ситцевой рубахе, в сером казинетовом полукафтанье, с медным перстнем на указательном пальце правой руки, рисовался перед красными девушками, подпевал им и то и дело заигрывал с невестой. Он то щипал ее, то подставлял мимо проходившей Насте свою длинную ногу, так что Настя рисковала разбить себе нос, то задавал Насте такой вопрос, на который она не могла отвечать, то делал не темные намеки на то, на се, от чего девушки разбегались, а Настя, как невеста, должна была оставаться с ним. Так любезничал Федор.
Горка орехов да дешевых пряников лежала на деревянном блюдце; две рюмки с выбитыми краями и штоф водки стояли тут же на столе. Стол поутру был выскоблен и вымыт старательною рукой Катерины Степановны, и вообще в тот день все в каморке столяра показывало, что готовится нечто праздничное, нечто веселое; но веселья было мало. Жених отпускал свои пошлые шуточки, причем встряхивал своими светлыми волосами и хохотал так неистово, что тусклые стекла и оконницы дрожали и маленький Андрюша, не привыкший еще к дикому хохоту, боязливо прятался за сестру. А сестра неподвижно сидела в обычной позе невесты, поникнув головой и сложив руки на коленях, – и в этой трагической позе было что-то безвыходно-грустное, возмутительно-тяжелое, тяжелое до одури, до отчаяния. Эта склоненная голова, эти скрещенные руки рассказывали печальную повесть об изменивших надеждах, о страхе перед темным будущим… По временам поднималось пение – не веселее погребального…
Насте нечего делать… Поговорка: не так живи, как хочется, а как можется, – для бедных не поговорка, а закон.
Пьяный Никита храпел на лавке за перегородкой, Степановна потчевала девушек и водочкой и орешками, потчевала и Палашу. Взяла девка горсточку орешков, но ей, как и Насте, орешки не шли в горло. Приятно видеть Палаше слезы Настины, но невыносимо зато ей веселье женихово. «Ишь ржет! Горло-то разорвать бы тебе, окаянному!» – думает Палаша, и ее загадочный, много говорящий взгляд впивается в Федора. А лицо жениха дышит довольством и счастьем; самым беззаботным весельем звучат его разгульные речи, его гомерический хохот, наводящий страх на Андрюшу. Любовно берет жених Настю за руку и тихо что-то шепчет ей… Настя краснеет и молча отдергивает руку… Жених целует ее… «Подавиться бы вам!» – волнуется Палаша и отворачивается от ненавистной четы: сердце ее рвется-разрывается… Похоронным напевом и для нее, как для Насти, звучат песни подружек; от нее Федора отнимают!..
Палаша ложится спать в своей кухоньке, жестка ей кажется деревянная лавка, ночное безмолвие – несносно. Не спится Палаше: свадебные песни и хохот, давным-давно смолкшие в жилище столяра, еще слышатся Палаше; они носятся вокруг нее в ночном безмолвии, не дают успокоиться ее сердцу, отгоняют от нее сон… Воспоминания далекого и близкого прошлого мечутся в ее разгоряченной голове… С детства не привыкла она к покорности и послушанию: с детства слыла она «дикою», строптивою, бедовою…
– Несдобровать нашей Палаше! – толковали про нее на деревне. – Вот те Христос, девоньки, несдобровать… Не сносить ей головушки…
И теперь только Палаша почувствовала, как строптиво, своевольно ее сердце… С таким сердцем, чувствовалось Палаше, действительно недалеко до беды! С таким неугомонным сердцем она всегда себя помнила, с таким сердцем росла она, выросла и стала взрослой. Мать оставила ее трехлетнею. Рано отогнала ее суровая бедность от родного дома и заставила мыкаться по свету. Непокойно, тревожно с самых малых лет шла жизнь Пелагеи; но домой, под соломенный отеческий кров, ее никогда не тянуло… Там сидела злая мачеха и отпугивала своевольную девочку. Своевольная девочка скорее в лес жить пойдет, волков и змей не побоится, чем останется жить с мачехой… Без сожаления и жалоб променяла Палаша пригнетенную жизнь на всем готовом на жизнь вольную, трудовую, на птичью жизнь. Четырнадцати лет оставила она в первый раз родную деревню…