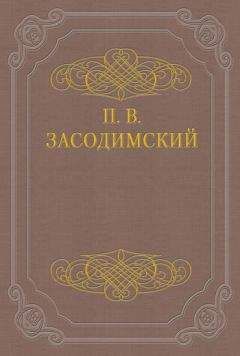Младшая сестрица Гришина, Марфа, была дева лет двадцати пяти, толстая, жирная, немного с придурью. Глядя на ее весноватое лицо, на нос, постоянно замаранный в саже, на вечно заспанные глазки, Максимовна не раз думала: «Глупа, мать моя, глупа! Да ничего! Дуракам-то лучше…» Тяжело вздыхая, выслушивала мать глупые Марфины речи…
Любовников Марфа меняла, как дерево листья, каждую весну. В настоящее же время в качестве возлюбленного при ней состоял живший от них неподалеку повар, которому она казалась и очень привлекательною и очень умною женщиной. Каждый вечер, после барского ужина, повар являлся к Гришиным и приносил кое-какие остатки от господской трапезы – кусочек-другой жаркого, чашку соуса или несколько штучек пирожного. Повар, будучи человеком грамотным и довольно начитанным, не раз остроумно замечал Максимовне:
– Мы с вами, как Лазари бедные, крупицами питаемся…
При этом повар набивал себе в нос добрую щепотку табаку и хихикал своим дребезжащим смехом.
Его негладко выбритая борода, одутловатые щеки, его красно-сизый нос и лысина, окруженная редкими прядями жиденьких волос, нравились Марфе; а старуха-мать не брезгала «крупицами со стола богатого».
– Николай Михайлыч такой прекрасный человек, право! Обходительный такой, ласковой… – говорила Максимовна кумушкам, а те, точно ничего не зная, поддакивали хором…
– Человек хороший, что и говорить! – вещали хищные птицы.
Сестра же «богомолка» от угощенья хотя и не отказывалась, но за глаза сильно порочила сестру-развратницу и повара-вора. Марфа же, по своей глупости, не умела пользоваться ослеплением своего возлюбленного, и все его подарки переходили в руки матери да «богомолки».
Самого же Федора нельзя было назвать ни особенно разгульным, ни особенно развратным парнем. Правда, он пил и в пьяном виде шумел и буянил, но пил он не от великой радости, как вообще русский человек, и в буйстве особенного удовольствия не находил. Целые дни, месяцы и годы проводя в сарае на льняном заведении купца Синеусова, целые дни, месяцы и годы бродя словно в царстве теней, сам как тень, – в среде жалких, испитых и бледных, задыхаясь в душной, пыльной атмосфере, работая с утра до ночи из-за копеек, работая до боли в груди и все-таки не будучи в силах жить по-людски, Федор ожесточался и свое дурно сознаваемое ожесточение топил в вине. Понятно бы сделалось его недовольство своею судьбою тому, кто увидал бы, как Федор в тускло освещенном сарае, стоя в облаках костицы[6] и пыли, изо дня в день крутил веревки и кашлял, кашлял до надсады. Подобный же удушливый кашель раздавался и по другим углам обширного сарая.
Но Федор – живой человек. Вопреки злой участи, захотел он попытать своего счастья; захотелось ему, голяку, свить гнездо, пожить с женкой. Настя-то ему больно по нраву пришлась. «Квартира есть! – раздумывал Федор, намереваясь делать предложение Насте. – А где трое едят – четвертый сыт будет… дело известное! А девка-то она работящая, красивая и тихая такая…»
В такую-то семейку попала Настя прямо из церкви под вечер сероватого летнего дня…
Воля всегда заманчива, но во сто крат она заманчивее для того, кому ее дают отведать и снова отнимают.
Если бы Степка с Алешкой не выходили по праздникам из своих смрадных подвалов на божий свет, то подвалы им не представлялись бы так скучны и мрачны, а божий свет не казался бы им так привлекателен и мил, как теперь, то есть когда они видали уже лучшее, нежели подвалы, и были знакомы хотя на мгновенье с жизнью на свободе. Братьям, при разных обстоятельствах, уже не раз приходила в голову одна и та же мысль – мысль освободиться из подвальной, забивавшей их жизни. Средства же к освобождению братья выискивали весьма различные, соответственно своим характерам…
Степка подобно лисице готов был на брюхе выползти из норки и осторожно, незаметно перегрызть сети, опутывавшие его. Алешка же, как волчонок, хотел одним скачком вырваться на вольный свет и разом, как ни попало, порвать веревки…
Степка, как более слабый и трусливый, естественно, должен был отвергать все те средства, которые носили на себе хотя малейший отпечаток насилия: чтобы с успехом воспользоваться теми средствами, нужна была сила, смелость, решимость, то есть – именно то, чего недоставало Степке. Но взамен силы физической и смелости лавочническая жизнь развила в Степке другие качества; другие средства указывала она Степке для освобождения. Мальчик ежедневно – сначала хотя-нехотя, а потом по собственному желанию – брал уроки в низкопоклонничестве, в притворстве и хитрости; на каждом шагу учился он пронырству и лицемерию. Понятно, что Степке казалось гораздо безопаснее освободиться из-под дядиного аршина путем хитростей и лицемерия, чем путем открытой борьбы. Со старшими Степка с виду станет обходиться почтительно, у хозяина будет ручку лизать и осторожно станет припрятывать в свою потайную копилку гроши и копеечки, а когда, наконец, из грошиков и копеечек составятся рубли, – он отойдет от обокраденного им дяди Сидора и тогда уж всласть может всех поругать… «Наплевать на него, на старого черта! – думает Степа. – Место получше найду…» В конце же концов, после нескольких перемен хозяев, Степка сам откроет лавочку, назовется Степаном Никитичем и пустится обмеривать, обвешивать покупателей и бить по головам мальчишек… Плутовать же Степка почитает необходимостью: он уж слыхал не однажды, что «правдой не проживешь». Таким-то образом Степка будет на воле…
Алешка же, как более сильный и энергичный, как более скорый на всякую расправу, презирал все медленные средства для достижения целей и в окольных путях, превозносимых Степкою, видел только излишнюю трату дорогого времени; его горячая натура никак не могла примириться с горькою мыслью, что для того, чтобы выйти на волю, – должно целые годы, лучшие годы склоняться и терпеть. Он смеялся над планами брата, которые казались ему слишком баснословными. «В купцы угодить хочет! Ах, шут его возьми!» – думал сам про себя Алешка, с веселым удивлением прислушиваясь к хитрым речам брата-пролазы.
– Полно ты! Возьмем – убежим, да вот те и вся недолгая, – говаривал старший брат.
Он засучивал рукава своей рубахи, обнажал мускулистую руку и, хмуря брови и постукивая неистово в грудь кулаком, свирепо шипел:
– Р-р-разобью!
Степка покачивал головой и благоразумно замечал, что тише едешь – дальше будешь, а что – если послушать его, Алешку, – так можно, пожалуй, и шею сломать. Не свои слова, но слышанные от дяди Сидора, повторял мальчуган. Хотя он и говорил таким образом, но освободиться из-под власти железного аршина и погулять на свободе ему шибко хотелось: детская живость брала-таки свое… Отважиться же самому на какой-нибудь решительный шаг сил недоставало у Степки. Вот, если бы вдруг каким-нибудь чудом, по щучьему веленью, по Степкину прошенью – унесло его из-за прилавка куда-нибудь подальше, где бы он был в безопасности, где бы его не схватили, не притащили его домой и не отодрали, это было бы очень хорошо.
За Степку давно уже думал Алешка, думал и обдумывал множество планов, более или менее грандиозных. Алешке, например, в часы досады и боли, после колотушек кума-философа думалось: как бы этак убежать на край света белого, убежать от всех этих дьяволов туда, где не обижали бы бедных ребят, не терзали бы их!.. Слыхал Алешка о каких-то морях, о китах-рыбах, о таких благословенных землях, где во веки веков зимы не бывает, где всегда лето теплое, где круглый год ягоды растут, цветут цветы, где люди только пшеничные пироги едят, да горелкою запивают… Но убежать в эту благодатную страну представлялось делом невозможным. Если бы путь был слишком опасен или долог, – Алешка бы, конечно, не остановился: по острым, режущим камням, по колючей траве, по горячим плитам, мимо всяких змеев-горынычей ушел бы Алешка в ту землю. Да в том только беда, что никто не может указать: где эта земля лежит. Алешка отбрасывал лучезарные мечты о пшеничных пирогах, о людях, не обижающих своих ближних, и останавливался на более простом и удобоисполнимом.
Однажды вечером в лавочку к дяде Сидору забрел слепой старик.
– Пожертвуйте на погорелое место! Пожертвуйте, благодетели – отцы родные! – шамкал старик.
(Лето в тот год стояло сухое, жаркое – и много лесов и деревень сгорело вокруг Болотинска, как и по всей России.)
В ту самую минуту, как взмолился старик, один сердитый покупатель, обманутый дядею Сидором, выходя, бросил медные деньги на прилавок. Деньги упали на пол и покатились.
– Ах, черт бы вас!.. – с досадой вскричал дядя Сидор, ища раскатившиеся деньги. – Пошел вон! Чего стал тут? Шляются только… Эй ты, прогони его!
Лавочник мотнул Степке головой.
– Уйду, батюшка! Уйду, родной… – смиренно шептал старик, испуганно поводя своими мутными глазами и ощупывая костылем порог.
Услужливый Степка подлетел к слепцу и, в угождение хозяину, так толкнул беднягу, что тот повалился с крыльца и своей лысой головой угодил о тротуарную тумбу. Пока старик стонал и охал, сидя в пыли на мостовой и ища свой откатившийся посох и шапку, Степка заметил, что неподалеку от лавки в тени забора стоит Алешка и молча подманивает его к себе. Степка, осторожно притворив стеклянную дверь, шмыгнул с крылечка и подбежал к брату.