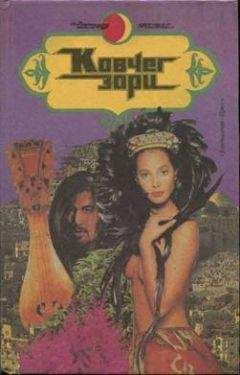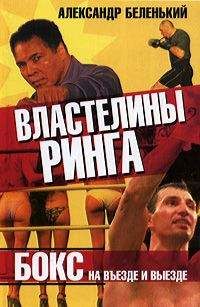– Купи, у меня нога крупная! – молвил тот, и матрос счел это за позволение присесть на сермягу.
– Мне не нужно. В земле и без сапог в самый раз!
– О, никак, надоело в сапогах-то?
Матрос понял, что имеет дело с хитрецом:
– Дурачок аль прикидываешься? – подмигнул кручинкинский собеседник. – Думаешь, дурак, так и помилуют? Нечего, брат, прятаться. Полковника-то кто угрохал?.. я тебя сам видел! – Кручинкинские усы шевелились, как бы исследуя, откуда шло недоброе слово. – То-то, моли своего бога, чтоб большевики пришли скорей!
Но хоть и глухим уродился мужик на совет чужой и беду людскую, тут уразумел, что моряк этот человек опасный, и на корабле его из тюрьмы не уплывешь. Быстрехонько схватив сермягу с полу, он отошел от зла в сторонку и долго прохаживался по камере взад и вперед, прежде чем оказался возле Стеньки. Тот стоял у окна, держась обеими руками за решетку и не сводя глаз с пустой улицы; зайдя чуть сбоку, Кручинкин заглянул туда же.
В слабых лучах восхода бестелесно желтели березы в палисаднике напротив, и еще видно было, как поднимали над городком дозорную колбасу. Потом по улице неспешно, как в прогулке, прошла женщина, повязанная платком; на щеку из-под платка выбивался клин темных волос. Она возвратилась, прошла еще раз и остановилась у окна, где ждал ее Стенька.
Должно быть, заранее на этот час была условлена у них разлука. Стенька сопел, а та не плакала, знающая все вперед, привыкшая к мысли о расплате. Она стояла с покорными руками, воровская жена, и вдовий облик ее был неотделим от образа белой ночи, проходящей по няндорским пространствам. Вдруг багровая волна, подымаясь снизу, залила Стенькино лицо; оно распухло, исказилось, и рот его, развороченный страданьем, мучительно метался в нем. Он крепко держался за решетку, точно какой-то вихрь, набежав сзади, мог продавить его сквозь лилейные эти шипы; так прошла минута. Стенька прощался с миром и со всем, что было ему дорого в нем. Потом багровость отлила, и краска, серая, как небеленый саван, одела безразличное лицо. Он махнул рукой и отвернулся. Прощание кончилось.
Рискуя получить смертный удар от вора, Кручинкин сунулся к окну, но увидел только спину женщины, которая удалялась.
– Стыдись… куда заглядываешь! – сказал Стенька расслабленно и не ударил, даже не отпихнул.
Уже отбуянила в нем душа, и все бывшие с ним приняли это как недобрый признак и начало их сообщего конца. Как только что окно, сейчас дверь сделалась самым значительным местом в камере: оттуда придут. Каждый шорох или даже слабое скольжение вещи стало привлекать настороженное внимание осужденных. Никто не двигался. Всходило солнце. Легкий рисунок окна отпечатлелся на полу. В тишине полз еле слышный безостановочный всхлип: это плакал хлюст в фуражке, плакал без всякого оживления, плакал о мерзости своей, доставлявшей ему радость.
– Эй… наизнанку выверну! – сквозь зубы крикнул на него матрос, и с этой минуты к нему перешла власть в камере.
Тогда – он запоминался навеки – раздался звон шпор, и одна дребезжаще призвякивала при каждом шаге. Потом, точно крался вор, в скважине осторожно простучал ключ, но почему-то все подумали, что к ним ведут нового временного сожителя по камере.
– Ловись, ловись, рыбка, большая и маленькая… – умышленно громко пошутил матрос, но он ошибся.
Впалыми глазами шаря перед собой, вошел Пальчиков; следом за ним конвойный солдат внес на цыпочках стул и поставил у стены. Дверь закрылась, но замок не прозвучал никак. Медленно, точно соблюдая ритуал, поручик сел на стул и глядел на матроса, пока тот не зашевелился.
– Ежели в гости пришел, так в тюрьму за этим не ходят. И потом: сам на стуле расселся, гад, а мы, ровно поленья, по полу… – сказал матрос, подходя ближе.
– Садитесь, если вы устали, – сказал поручик, приподымаясь.
Отступив, матрос размышлял о странном этом поведении.
– Скоро нас кончат?
– А вам очень хочется? – поднял брови поручик.
– За тем и шел! – резко сказал матрос. Он внимательно приглядывался к Пальчикову. – Ты из Волчьей сотни?.. Ну, я так и знал. Это твой отряд Кодшу обходил?
– Мой, – сказал поручик.
– Собачья публика… Зачем же было мост-то подрывать! Ты уж людей коси, а мост, кто б ни победил, все равно заново надо строить. Эх, грамотные!.. Ну, гад, кончат-то нас скоро?
Пальчиков заговорил лишь через минуту, когда потребность в прямом ответе уменьшилась.
– Скажите… – он помялся, – гражданин, у вас найдено письмо из Вятской губернии… за хлеб благодарят… это от жены?
– Нет, сестра, – сказал матрос, – а что?.
– Хорошая у тебя сестра.
– Ну, это не твое дело. Ну-ка, дай папироску, раз пришел. Твое дело хозяйское… – Он, видимо, хотел поскорее закончить бесцельный разговор.
– Я не курю, – ответил поручик. Однако он поискал в кармане и поспешно достал деньги. – Если хочешь курить, возьми деньги и сходи к Анисье… знаешь, это угол Вознесенского и Соборной. Купи себе папирос… для всех купи. Возьми с собой вон того парня, он все знает… – Он указал на Стеньку, окаменело стоявшего у стены и уже как бы простреленного.
Матрос зорко оглядел поручика, но он ошибался, полагая, что понял его намерение.
– Нет, голубок, – сказал он твердо, и темные жилы разбежались по лбу, – отсюда нас только силой выведут!
Пальчиков молчал, и оттого, что он равнодушно принял отказ матроса, того посетила последняя и верная догадка.
– Давай деньги! – тихо сказал он. – А там нас пропустят? – кивнул он на дверь. – Эй, пойдем, воряга. Ну, спасибо тебе… за папироски! – очень просто сказал он, толкая впереди себя перетрусившего Стеньку; Пальчиков не обернулся.
Очевидно, часовые уже имели распоряжение поручика. Скоро мимо окна прошли двое: Стенька все оглядывался, а матрос шел тихо, чуть опустив голову. Они не разговаривали, и, хотя шли по ровному месту, было в ногах ощущение, точно спускались с горы.
– Слушай… – сказал Пальчиков гимназисту, проследив их уход глазами, – иди навести отца. И не беги по улице, а то стрелять будут…
– Потом прикажете вернуться сюда? – взволнованно щупая пряжку ремня, спросил гимназист.
– Дурак, – брезгливо кинул поручик, и ему стало скучно. Гимназист торопливо сбирал вещи с пола – шинель и берестяник, которым снабдили его дома в последнюю дорогу. – Оставьте вещи здесь. Надо же соображать иногда… – резко прибавил Пальчиков и почти в лицо отпихнул его, когда тот послушно кинулся к его руке.
Он все же побежал по улице, этот глупый малый, и в окно видно было, как из подворотни выскочила собачонка и облаяла его, а он, все забыв, с искаженным лицом отбрыкивался от нее ногами.
– Иди со мной, – сказал потом Пальчиков мужику и вышел в дверь первым.
В камере оставался теперь один лишь хлюст в фуражке, которому предстояло пойти в обмен на английского полковника. Нервно и суетливо, как гиена в клетке, он бегал по камере и мучительно искал в самом себе доказательств, что уже сошел с ума.
Прибавлялось солнца в улицах, шумели долгожданные петухи, и стаи галок кружили над ненавистной Пальчикову каланчой. Слегка пророзовев, отплывали дальше в безбрежные степи неба облака. Приступало утро, и у Пальчикова рождалось такое ощущение, точно он захватывает день, ему уже не принадлежащий.
Два квартала Кручинкин бессловесно бежал за поручиком.
– Ты не беги, а то я ровно песик за тобой… – попросил Кручинкин, – не поспеваю!
– Ты издалека? – замедляя шаг, спросил поручик.
– А из села Горы я! – восторженно отозвался тот, радуясь вопросу, как милости: почти затекал от долгого молчания его непоседливый язык. – Из села Горы я, лесишки вокруг… опять же море шибко гремучее. Многие дачники наезжают молоко наше пить, за полагушку гривенник, дарма даем. Приедет – в иголку его проденешь, а к отъезду рожа-то уж как фонарь светится! – Он заглотнул побольше воздуха для дальнейших описаний родных красот. – А то надысь кит в реку-то к нам заплыл, заплыл да и обмелел, обмелел да и обмяк весь, ровно студень на солнышке… Так, веришь ли, два часа мы в него палили, шуму что навели… всех и гагар-то распугали. Всяко били, еле прикончили!..
– Зачем же вы его так? – Пальчиков представил себе, как десять хозяйственных мужичков, подобных Кручинкину, толкутся на спине кита, пластуя и деля дар великого моря.
– А что ж, в трактир, что ль, его весть, раз заплыл? – встрепенулся Кручинкин, и в руках его скользнуло что-то от жаворонка, когда взвивается он над полем. – В киту сало есть, полезно, когда горло заболит, сапоги его тоже любят. Англичана торговали, деньги давали, а мы его на ром да на резиновы сапоги… Гляньте, мол, кит-то каков, первый сорт кит, такая жулябина… на всю Англию вам хватит!
– Продали? – Пальчиков прислушивался, точно к голосу из иного мира, уже покинутого им.
– А то как же… Три дня мы того кита пропивали, а потом колышками щекотаться зачали. У нас это только в радости! На Петров день двенадцать человек положили, а на Казанскую, бог даст, еще того более положим. Англичана всё в аппараты сымали на память… Главное дело, если кровь при пробитии головы вытекает, это хорошо. Ставь его на ноги, и снова годный боец. Вот народ, сказывают, мельчат, а я думаю, как губернию, скажем, на губернию каждогодко напущать, так и народ бы от развития крепше стал…