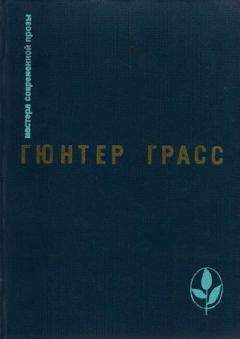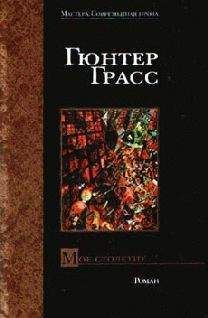Грасс Гюнтер
Мое столетие (фрагменты)
Гюнтер Грасс
Мое столетие
Фрагменты книги
1900
Я, подменяя себя самого собой самим, неизменно, из года в год при этом присутствовал. Конечно же, не всегда на передовой линии: поскольку непрерывно шла какаяЦнибудь война, наш брат куда как охотно перемещался в ближний тыл. Правда, поначалу, против китайцев, когда в Бремерхавене формировался наш батальон, я стоял в первой шеренге среднего звена. Почти все мы были добровольцами, правда, из Штраубинга вызвался только я один, хоть и справил недавно помолвку с Рези, с моей Терезой, другими словами.
Перед погрузкой на корабль мы имели за спиной трансокеанское сооружение Северогерманского отделения Ллойда и солнце в глаза. Перед нами на высокой трибуне стоял кайзер и произносил вполне бойкую речь поверх наших голов. От солнца же нас защищали широкополые головные уборы нового образца, именуемые зюйдвестками. Словом, выглядели мы лихо. А вот на кайзере был особый шлем: мерцающий орел на голубом фоне. Он говорил о высоких задачах и о коварном враге. Речь его увлекала. Он сказал: УКогда вы приступите к операции, знайте: никакой пощады врагу, пленных не брать...Ф Потом он рассказал нам про короля Аттилу и про орды его гуннов. Гуннов он назвал достойными подражания, хоть и проявляли они себя с пугающей жестокостью. ИзЦза чего впоследствии наши соци публиковали наглые Уписьма гунновФ и нещадно глумились над речью кайзера. Под конец своей речи кайзер дал нам свой кайзерский наказ: УРаз и навсегда откройте дорогу культуре!Ф, а мы ответили ему троекратным УураФ.
Мне, выходцу из Нижней Баварии, затяжное морское путешествие показалось ужасным. Пока наконец мы не прибыли в Тяньцзинь, где уже собрались все: британцы, американцы, русские, даже настоящие японцы и небольшие отрядики из стран помельче. Британцы ? это, по сути говоря, были индусы. Поначалу наш отряд был довольно малочисленным, но зато у нас, по счастью, были новые 5-сантиметровые скорострельные пушки от Круппа. А американцы, те испытывали свой пулемет УМаксимФ, дьявольская штучка, доложу я вам. Так что Пекин мы взяли в два счета. И когда подтянулась наша часть, дело выглядело так, будто все уже закончено, о чем мы, конечно, от души пожалели. Но некоторые боксеры поЦпрежнему не оставляли нас в покое. Их называли боксерами, потому что они основали тайное общество Ихэтуань, или, если перевести, чтоЦто вроде Усражающиеся кулакамиФ. Вот почему бриты первыми и заговорили о боксерском восстании. Боксеры ненавидели всех иностранцев, потому что те продавали китайцам всякую дрянь, а бриты, те больше всего приторговывали опиумом. Все и вышло по приказу кайзера: УПленных не братьФ.
Для порядка всех боксеров согнали на площадь перед Небесными воротами как раз перед стеной, отделяющей Город маньчжуров от остального Пекина. Они все были связаны за косы, что выглядело очень забавно. Потом их стали либо расстреливать по группам, либо обезглавливать по одному. Но об этих ужасах я не написал своей невесте ни единого словечка, а писал я ей только про яйца, пролежавшие в земле сто лет, и про паровые клецки поЦкитайски. Бриты и мы, немцы, предпочитали быстро управляться с ружьями, тогда как японцы, обезглавливая боксеров, следовали старинной национальной традиции. Однако боксеры предпочитали быть расстрелянными, потому что боялись, как бы им не пришлось на том свете бегать со своей отрубленной головой под мышкой. Больше они ничего не боялись. Я наблюдал за одним китайцем, который прямо перед расстрелом жадно доедал рисовый пирог, обмакнув его в сладкий сироп.
На площади Тяньаньмынь задувал ветер, прилетавший из пустыни и поднимавший облака желтой пыли. Все вокруг становилось желтым, и мы тоже. Вот об этом я написал своей невесте и насыпал в почтовый конверт немного желтого песку. Но поскольку японцы отрезали китайцам косы, чтобы потом было сподручнее отрубить им голову, на площади в желтом песке часто лежали кучки отрезанных кос. Одну из них я поднял и отправил домой как сувенир. Вернувшись домой, я ко всеобщему удовольствию носил ее на карнавальных гуляньях до тех пор, пока моя невеста не сожгла мой сувенир. УЭто привлекает в дом нечистую силу!Ф ? сказала Рези за два дня до нашей свадьбы.
Впрочем, здесь уже начинается другая история.
1907
В конце ноября сгорел наш прессовочный завод. Дотла. А между тем дела у нас шли лучше некуда. Хотите верьте, хотите нет, но мы ежедневно выпускали на свет божий тридцать шесть тысяч пластинок. И покупатели рвали их у нас прямо из рук. Доходы от продажи нашего ассортимента составляли ежегодно двенадцать миллионов марок. Дела шли особенно хорошо, потому что мы вот уже два года как начали выпускать в Ганновере двухсторонние пластинки. Раньше такие были только в Америке. Много военного шума и грома. Мало такого, что соответствовало бы изысканным вкусам. Но потом Рапопорту ? а Рапопорт это ваш покорный слуга ? посчастливилось уговорить Нелли Мельбу, Увеликую МельбуФ, прийти к нам на запись. Поначалу она жеманилась, как позднее ? Шаляпин, который вообще до смерти боялся изЦза этой дьявольщины, как он именовал нашу новейшую технику, потерять свой бархатный голос. Йозеф Берлинер, который на пару со своим братом Эмилем еще до конца века основал в Ганновере компанию УНемецкий граммофонФ, потом перенес ее в Берлин и, при двадцати тысячах марок основного капитала, пойдя тем самым на большой риск, в одно прекрасное утро сказал мне: УА ну, Рапопорт, укладывай чемоданы, тебе надо поЦбыстрому смотаться в Москву и выйти там на Шаляпина, только не задавай лишних вопросовФ.
И в самом деле: я не стал долго собираться и сел в первый же поезд, прихватив с собой наши первые пластинки с записями великой Мельбы, так сказать, в качестве подарка. Ну и поездочка же выдалась, доложу я вам! Вы знаете, что такое ресторан УЯрФ? Высший класс! Долгая ночь в отдельном кабинете! Сперва мы просто пили водку из бокалов для воды, потом Федор осенил себя крестом и начал петь! Нет, не эту, коронную арию из УБориса ГодуноваФ, а благочестивые напевы, их еще ведут монахи, глубокими такими басами! После этого мы перешли к шампанскому. Но лишь под утро он, плача и осеняя себя крестом, подписал договор. Поскольку я с детских лет прихрамываю, он, когда я заставлял его поставить свою подпись, возможно, видел во мне черта. Да и то сказать, он согласился лишь потому, что нам еще раньше удалось подловить Собинова, их великого тенора, и предъявить ему договор с Собиновым, так сказать, в виде образца. Во всяком случае, Шаляпин стал нашей первой граммофонной звездой.
Потом уж они все подвалили: Лео Слезак, Алессандро Мореччи, которого мы записали как последнего знаменитого кастрата. А уж потом мне в отеле УДи МиланоФ удалось ? вы даже и не поверите ? как раз этажом выше той комнаты, где умер Верди, сделать первые записи Энрико Карузо, первые десять арий, ну, само собой разумеется, с эксклюзивным договором. Вскоре для нас уже пела Аделина Патти, и кто только еще не пел! Мы поставляли нашу продукцию во все страны. Английский и испанский королевские дома числились среди наших постоянных клиентов. А что до парижского дома Ротшильдов, то Рапопорту удалось с помощью некоторых махинаций оттеснить их американского поставщика. Однако мне, как торговцу пластинками, было совершенно ясно, что мы не должны всегда оставаться на таком эксклюзивном уровне, что главное ? это массы и что нам необходимо произвести децентрализацию, чтобы с помощью новых прессовочных фабрик в Барселоне, Вене и даже в Калькутте сохранить свое место на мировом рынке. Вот почему и пожар в Ганновере не был для нас полной катастрофой. Хотя мы, конечно, были крайне озабочены, потому что нам пришлось начинать все снова, на Цельском шоссе, с братьями Берлинер. Правда, Берлинеры оба были гении, а я всего лишь торговец пластинками, но Рапопорт всегда понимал: с помощью пластинки и граммофона мир воссоздает себя заново. Тем не менее Шаляпин перед каждой очередной записью все так же многократно осенял себя крестом.
1908
У нас в семье существует такая традиция: отец берет с собой сына. Уже мой дедушка, работавший на железной дороге и вдобавок член профсоюза, брал с собой продолжателя своего рода, когда Вильгельм Либкнехт выступал на Хазенхайде. И мой отец, тоже железнодорожник и тоже член партии, можно сказать, вдолбил в меня до известной степени пророческие слова касательно этих манифестаций, запрещенных, пока у власти находился Бисмарк: УАннексия Эльзаса и Лотарингии принесет нам не мир, она принесет нам войнуФ.
А теперь вот он начал брать с собой меня, не то девятиЦ, не то десятилетнего сорванца, когда сын Вильгельма, товарищ Карл Либкнехт выступал либо под открытым небом, либо, если запретят, в какойЦнибудь продымленной пивной. Возил он меня и в Шпандау, где Либкнехт баллотировался на выборах. А в девятьсот пятом году я поехал с ним на поезде ? отцу, как железнодорожнику, причитались бесплатные поездки даже и до Лейпцига, ? потому что в Горном погребке в Плагвице выступал Карл Либкнехт, и он рассказывал про большую забастовку в Рурском регионе, о чем писали тогда все газеты до единой. Но Либкнехт не только говорил про горняков и не только агитировал против прусских землевладельцев и фабрикантов, главным образом и вполне пророчески он рассуждал о всеобщей забастовке как будущем средстве борьбы пролетарских масс. Он говорил без бумажки, словно ловил слова из воздуха. И вот он уже перешел к России и запятнанному кровью царизму.