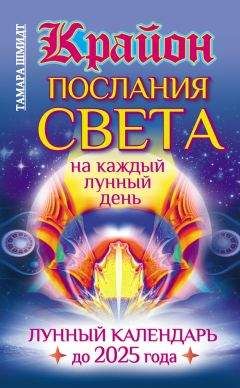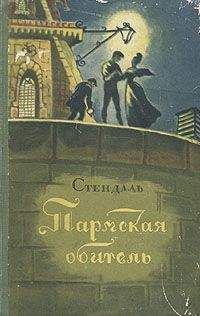ГЛАВА LIII
ОБ АРМИИ
Назначения, которые Наполеон делал во время постоянных своих смотров, опрашивая солдат и сообразуясь с мнением полка, были весьма удачны; назначения, исходившие от князя Невшательского, никуда не годились[1]. Ума, а тем более малейших признаков пылкой любви к родине было достаточно, чтобы человека неизменно обходили повышением. Очевидно, однако, глупость считалась необходимой только для офицеров гвардии, от которых прежде всего требовалась полная невозмутимость во всем, что касалось политики. Они должны были быть слепыми орудиями воли Магомета. Общественное мнение считало желательным замену начальника главного штаба герцогом Далматским или графом Лобау. Князю Невшательскому назначение любого из них доставило бы большее удовольствие, нежели им самим. Тяготы, связанные с этой должностью, неимоверно его утомляли; он целыми днями сидел, положив ноги на письменный стол, развалясь в кресле, и вместо того, чтобы отдавать распоряжения, на все обращенные к нему вопросы отвечал посвистыванием. Великолепны по своим качествам во французской армии были унтер-офицеры и солдаты. Так как найти заместителя для военной службы можно было только за большие деньги, то все сыновья мелкой буржуазии волей-неволей шли в солдаты, а благодаря обучению в военных школах они читали "Эмиля" и "Записки о галльской войне" Юлия Цезаря. Не было сублейтенанта, который не питал бы уверенности, что стоит ему храбро сражаться и не попасть под шальное ядро - и он станет маршалом Империи. Эта блаженная иллюзия сохранялась до производства в чин бригадного генерала. Тогда в прихожей вице-коннетабля военным становилось ясно, что преуспеть - если только не представится случай совершить подвиг на глазах у великого человека - можно только путем интриг. Начальник главного штаба окружил себя подобием двора, чтобы подчеркнуть свое превосходство над теми маршалами, которые - он сам это сознавал - были талантливее его. По своей должности князь Невшательский ведал производством во всех войсках, расположенных за пределами отечества, от военного министра зависело лишь производство тех, кто служил в пределах Франции, где, по общему правилу, повышение давалось только за боевые заслуги. Однажды в заседании Совета министров почтенный генерал Дежан, министр внутренних дел, генерал Гассенди и некоторые другие в один голос стали упрашивать его величество назначить батальонным командиром артиллерийского капитана, стяжавшего большие заслуги на службе внутри страны. Военный министр напомнил, что за последние четыре года император трижды вычеркивал фамилию этого офицера в декретах о производстве в более высокий чин. Все, отбросив официальную сдержанность, уговаривали императора. "Нет, господа, я никогда не соглашусь дать повышение человеку, который уже десять лет как не был в бою; но ведь всем известно, что мой военный министр умеет хитростью добиться моей подписи". На другой день император, не читая, подписал декрет о назначении этого достойного человека батальонным командиром. На войне император после победы или просто удачного дела одной какой-нибудь дивизии всегда устраивал смотр. Объехав в сопровождении полковника ряды и поговорив со всеми солдатами, чем-либо отличившимися, он приказывал бить сбор: офицеры толпой окружали его. Если кто-либо из эскадронных командиров был убит в бою, он громко вопрошал: "Кто самый храбрый капитан?" В пылу энтузиазма, возбужденного победой и присутствием великого полководца, люди говорили искренне, и ответы их были чистосердечны. Если самый храбрый капитан не обладал нужными для эскадронного командира способностями, его повышали в чине по ордену Почетного Легиона, а затем император снова задавал вопрос: "После него кто же самый храбрый?" Князь Невшательскнй карандашом отмечал награждения, и как только император направлялся в другой полк, командир полка, в котором он побывал, утверждал офицеров в новых должностях. В эти минуты мне нередко приходилось видеть, как солдаты плакали от любви к великому человеку. Одержав победу, этот изумительный полководец приказывал немедленно составить список тридцати сорока человек, представляемых к награждению орденом Почетного Легиона или к повышению по службе. Списки эти, зачастую составленные на поле битвы, нацарапанные карандашом, почти всегда собственноручно подписанные Наполеоном и, следовательно, по сей день хранящиеся в государственных архивах, когда-нибудь после его смерти явятся волнующим историческим документом. В тех весьма редких случаях, когда генерал не догадывался составить список, император грубовато заявлял: "Я жалую такому-то полку десять офицерских и десять солдатских крестов Почетного Легиона". Такой способ награждения несовместим со славой. Когда он посещал госпитали, перенесшие ампутацию и находившиеся при смерти офицеры, над изголовьями которых булавками были приколоты красные кресты Почетного Легиона, решались иной раз просить его о награждении орденом Железной короны. Однако он не всегда удовлетворял такие просьбы: это была высшая военная награда. Культ доблести, непредвиденность событий, всепоглощающее влечение к славе, заставлявшие людей через четверть часа после награждения с радостью идти на смерть, - все это отдаляло военных от интриг.
[1] Князь Невшательский обладал всеми нравственными качествами, присущими порядочному человеку, но в его способностях позволительно усомниться. В конце рукописи - следующее суждение: Князь Невшательский, последовательно занимавший в Версале ряд низших придворных должностей, сын человека, который своими географическими трудами снискал расположение Людовика XV, никогда не испытывал того восторга перед республикой, которым в молодости горело большинство наших генералов. Это был законченный продукт того воспитания, которое давалось при дворе Людовика XVI; весьма порядочный человек, ненавидевший все, что носило отпечаток благородства или величия. Из всех военных он наименее способен был постичь подлинно римский дух Наполеона; вот почему он хотя и нравился деспоту своими замашками царедворца, однако постоянно раздражал великого человека своими взглядами, проникнутыми духом старого порядка. Сделавшись начальником главного штаба и князем, он долго раздумывал над тем, какой формулой вежливости ему надлежит заканчивать свои письма. Известно, что приближенные к нему льстецы производили тщательные розыски в Национальной библиотеке; но ни одно из предложений не показалось ему приемлемым; в конце концов он решил заканчивать свои письма без всякой формулы вежливости и просто подписывать их своим княжеским именем: Александр. Впрочем, в частной жизни он обладал всеми добродетелями; он был ничтожен лишь как правитель и полководец. Несмотря на некоторую резкость, он был приятен в обществе.
ГЛАВА LIV
ЕЩЕ ОБ АРМИИ
Постепенно дух армии менялся; из суровой, республиканской, героической, какою она была при Маренго, она становилась все более эгоистичной и монархической. По мере того как шитье на мундирах делалось все богаче, а орденов на них все прибавлялось, сердца, бившиеся под ними, черствели. Те из генералов, которые с энтузиазмом отдавались военному делу (например, генерал Дезэ), были удалены из армии или отодвинуты на второй план. Восторжествовали интриганы, и с них император не решался взыскивать за проступки. Один полковник, который обращался в бегство или прятался где-нибудь во рву всякий раз, когда его полк шел в атаку, был произведен в бригадные генералы и назначен в одну из внутренних областей Франции. Ко времени похода в Россию армия уже до такой степени прониклась эгоизмом и развратилась, что готова была ставить условия своему полководцу[1]. Вдобавок бездарность[2] начальника главного штаба, наглость гвардии, которой во всем оказывалось предпочтение[3] и которая давно уже, на правах неприкосновенного резерва, не участвовала в боях, отвращали от Наполеона множество сердец. Воинская доблесть нисколько не уменьшилась (солдат из народа, обуреваемого тщеславием, всегда будет готов тысячу раз рискнуть жизнью, чтобы прослыть самым храбрым из всей роты), но, утратив привычку к повиновению, солдаты перестали быть благоразумными и бессмысленно расточали свои физические силы, вместе с которыми, естественно, гибла и храбрость. Один из моих приятелей, полковник, по пути в Россию рассказал мне, что за три года через его полк прошло тридцать шесть тысяч человек. Образованность, дисциплина, выдержка, готовность повиноваться ослабевали с каждым годом. Некоторые маршалы, как, например, Даву или Сюше, еще имели власть над своими корпусами: большинство же, казалось, сами насаждали беспорядок. Армия утратила сплоченность. Отсюда те победы, которые казакам, этим плохо вооруженным крестьянам, суждено было одержать над самой храброй армией всего мира. Я видел, как двадцать два казака, из которых самому старшему, служившему второй год, было лишь двадцать лет, расстроили и обратили в бегство конвойный отряд в пятьсот французов; это случилось в 1813 году, во время Саксонской кампании[4]. Эти казаки оказались бы бессильными против республиканской армии времен Маренго. А так как подобной армии уже не будет, то монарх, повелевающий казаками, повелевает миром[5].