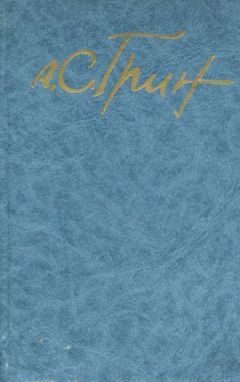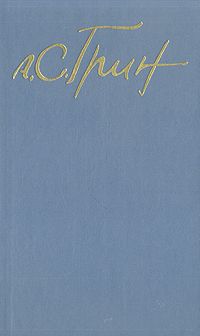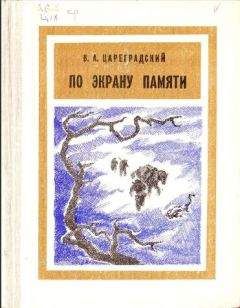"Я обратил внимание на ряд весьма любопытных отклонений от канона литургии, - заметил профессор, - в особенности в том, что касается поцелуя".
И тут началась литургия.
В первый раз за все утро император и императрица оставили свои троны; они исчезли за шелковым занавесом, в святилище; большая часть священников также нас покинула. На сцене остались сидеть одни дипломаты - с застывшими, отупелыми лицами и в позах, лишенных всякой элегантности. Подобное выражение я видел на лицах пассажиров переполненных железнодорожных вагонов, под утро, между Авиньоном и Марселем. Только костюмы в данном случае были куда забавней. Единственный, кто держался молодцом, был маршал д'Эспрэ - грудь колесом, жезл от колена торчком, сам бравый, точно памятник защитникам отечества и, судя по всему, сна ни в одном глазу.
Время шло к одиннадцати - согласно протоколу, император должен был как раз выйти из шатра. В полном соответствии с планом три аэроплана абиссинских ВВС встали на крыло, чтобы приветствовать Его Величество. Они давали над шатром круг за кругом, они демонстрировали свежеобретенное искусство высшего пилотажа, пикируя на шатер и выходя из пике в нескольких футах от его полотняного верха. Грохот стоял ужасающий; местные вожди, как по команде, дернулись во сне и перевернулись на живот; о том, что священники все еще поют, можно было судить исключительно по губам и периодическому переворачиваню страниц.
"Как это все не вовремя, - сказал профессор. - Я пропустил огромное количество стихов".
Литургия закончилась где-то к половине двенадцатого; император и императрица, при коронах, проплыли под красно-золотым балдахином, более всего похожие, по меткому замечанию Айрин, на золоченые статуи во время крестного хода в Севилье, к пышной трибуне, откуда император и прочел тронную речь; она же, растиражированная, была сброшена с аэроплана, и герольды еще раз прочли ее народу через громкоговорители. {...}
Святые отцы снова ударились в танцы, и кто знает, сколько бы еще это могло продолжаться, если бы фотографы не затолкали танцующих, не засмущали и не оскорбили их религиозное чувство до такой степени, что они предпочли закончить священнодействие подальше от профанов, в стенах храма.
Затем наконец императора с императрицей проводили к экипажу, и измученная, но все еще взбрыкивающая время от времени упряжка увезла их на торжественный обед. {...}
Засим последовали шесть дней непрерывного празднества. В понедельник дипломатические миссии должны были отметиться на возложении венков в мавзолее Менелика и Заудиту. Мавзолей находится невдалеке от Гебби и представляет собой круглое, подведенное под купол здание, отдаленно напоминающее нечто византийское. Интерьер оформлен ретушированными и сильно увеличенными фотографическими портретами членов императорской семьи, дедушкиными часами из мореного дуба и несколькими разного фасона столиками, чьи ножки косо торчат из-под положенных углом расшитых полотняных скатертей; на столиках стоят конические серебряные вазы, полные незатейливо сработанных из проволоки и крашенной фуксином ваты сережек. Ступени ведут вниз, в склеп, где покоятся два мраморных саркофага. Лежит ли в каждом саркофаге соответствующее тело, да и вообще какое бы то ни было тело, - вопрос более чем спорный. Дата и место смерти Менелика суть дворцовая тайна, но принято считать, что он испустил дух года за два до того, как об этом сообщили народу; императрица же, вероятнее всего, похоронена в Дебра Лебанос {Самый почитаемый в Эфиопии монастырь, центр религиозной жизни всей христианской части страны.}, под горой. Все утро одна задругой добросовестно прибывали делегации великих держав, и даже профессор Y., не пожелавший отставать от прочих, явился с мрачной миной и букетом белых гвоздик.
Ближе к вечеру в американской миссии состоялось чаепитие, теплая, дружеская вечеринка, а итальянцы устроили бал с фейерверком, однако самый живой интерес привлек устроенный императором для своих соплеменников gebbur. Подобные пиршества являются неотъемлемой частью эфиопской жизни и составляют основу той едва ли не родственной по сути связи, которая существует здесь между простым народом и его повелителями, чей престиж в мирное время напрямую зависит от частоты и богатства gebbur. Еще несколько лет назад приглашение на gebbur было обязательным пунктом программы для каждого, кто приезжал в Абиссинию. Едва ли не всякая книга об этой стране содержит подробный, от первого лица отчет об особенностях национальных трапез, с описанием сидящих тесными рядами на корточках участников пира; рабов, разносящих свежие, дымящиеся четвертины туш только что зарезанных коров; манеры, коей каждый гость отрезает себе свой кусок; резкого, снизу вверх, движения кинжала, при помощи которого едок отсекает от сочащегося кровью куска и переправляет в рот очередную порцию мяса; плоских, круглых, как блюдо, местных хлебов из сыроватого теста; как отхлебываются из рогов немалыми глотками местные tedj и talla; мясников, которые чуть поодаль режут и разделывают быков; императора и присных его за высоким столом, передающих друг другу от обильно сдобренных специями и куда как более изысканных блюд. Таковы традиционные черты gebbur, и я не сомневаюсь, что и в данном случае традиция была соблюдена. По крайней мере, именно в этих словах его описывали журналисты, вдохновенно пересказавшие избранные места из Рея и Кингсфорда {Авторы популярных книг об Эфиопии.}. Верный Мистер Холл частным образом пообещал каждому из нас употребить все свое влияние, задействовать каналы и так далее, однако в результате никто на gebbur так и не попал, за исключением двух особо назойливых леди и - мы расценили это как недостойную эксплуатацию идеи расового превосходства - цветного корреспондента от синдиката негритянских газет.
Все, что мне удалось увидеть в тот вечер, - это последняя партия гостей, с трудом выбиравшаяся из ворот Гебби. Объевшиеся и упившиеся до полного отупения, они были совершенно счастливы. И как им было не позавидовать! Полицейские пытались хоть как-то направить и ускорить их движение, но зады были глухи к пинкам, а спины - к ударам тростью, и ничто не могло нарушить тихой радости. Верные приспешники сообща заталкивали своих вождей на мулов, и вожди сидели в седлах моргая и лучась улыбками; какой-то ветхий старик, усевшийся в седло задом наперед, неуверенно шарил по крупу в поисках узды; иные стояли обнявшись, молчаливой, колеблемой туда-сюда группой; другие, лишенные дружеской поддержки, блаженно катались в пыли. Я вспомнил о них ближе к ночи, когда сидел в гостиной итальянской миссии и принимал участие в мрачной дискуссии по вопросу об императорских капризах в распределении почестей и о том, что это, пожалуй, можно квалифицировать как легкое нарушение дипломатических приличий.
Но был еще парад всех возможных вооруженных сил, как регулярных, так и не очень, в самой гуще которого проследовала удивленная Айрин на такси и в окружении конного оркестра, игравшего на шестифутовых трубах и седельных барабанах из дерева и воловьей кожи. Когда проехал император, к аплодисментам добавился пронзительный, переливчатый свист.
Было открытие музея сувениров, в экспозицию коего входили образцы местного народного творчества, корона, захваченная генералом Нейпиром при Магдале и возвращенная музеем Виктории и Альберта, а еще немалый камень с лункой посередине - некий абиссинский святой носил его вместо шляпы.
Был войсковой смотр на равнине за железнодорожной станцией.
Но нет такого перечня событий, который мог бы передать подлинную атмосферу тех удивительных дней, ни с чем не сравнимую, и зыбкую, и незабываемую. Если я и заострил внимание на беспорядочности торжественных мероприятий, на непунктуальности и даже порой на явных провалах, так только оттого, что именно в этом и состояла характернейшая особенность празднеств и основа неповторимого их очарования. Все в Аддис-Абебе было наугад и наудачу; вы привыкали с минуты на минуту ждать чего-то необычного, и тем не менее всякий раз вас заставали врасплох.
Каждое утро мы просыпались и нас ждал ясный, полный по-летнему яркого солнечного света день; каждый вечер приносил прохладу, свежесть, и был заряжен изнутри тайною силой, и пах едва заметно дымком от очагов в tukal, и пульсировал, как единое живое тело, непрерывным рокотом тамтамов, откуда-то издалека, из не пропускающих свет эвкалиптовых рощ. На богатом африканском фоне сошлись на несколько дней люди всех рас и нравов, смешавши воедино все возможные степени взаимных подозрений и вражды. Из общей неуверенности то и дело рождались слухи: слухи насчет места и времени каждой конкретной церемонии; слухи о разногласиях в верхах; слухи о том, что в отсутствие всех ответственных чинов Аддис-Абебу захлестнула волна грабежей и разбоя; что эфиопскому посланнику в Париже запрещено возвращаться в родную столицу; что императорский кучер не получал содержания вот уже два месяца и подал прошение об уходе; что одна из миссий отказала в приеме первой фрейлине императрицы. {...}