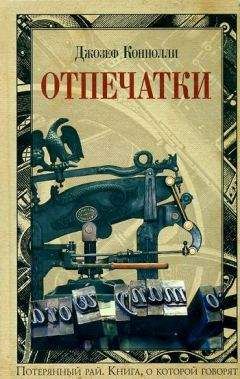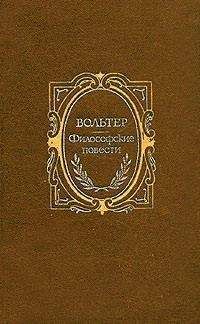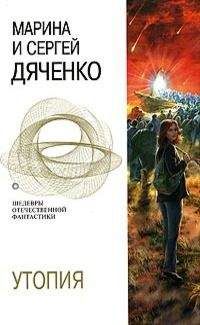По сути дела, таков один из простейших приемов группового моделирования — а также любого «психологического» рома на. Запереть людей в замкнутом пространстве — и посмотреть, что получится. Так построены множество детективов — и в классическом их изводе все действующие лица в финале оказываются в замкнутом пространстве, в реальном времени наблюдают последние шаги следствия и выслушивают приговор. Так построены множество утопий: чтобы остров Утопия был прекрасен, ему необходимо быть островом, что бы там ни говорил Джон Донн; чтобы на Желтой Подводной Лодке все были Счастливы, она должна быть подводной лодкой. Отделенность — отдельность — от внешнего мира соблазняет простотой решения. Чтобы все было хорошо, нужно спрятаться. Чтобы спрятаться, нужно закрыть глаза. Спрятаться можно — если согласишься никого при этом не видеть. Ни единой живой души.
«Отпечатки» — страшный и простой роман о том, что утопия возможна лишь в том случае, если ее железной хваткой будет держать некая сознательная воля. Роман о том, что утопия выживает только при наличии диктатора. Что самые добрые люди с самыми благими намерениями, не делая опрометчивых шагов, никому не причиняя вреда, оставаясь лишь сами собой, — в рекордные сроки приводят в запустение самый прекрасный остров и в негодность — самую технически продвинутую подводную лодку. Что бы там ни говорил Джон Донн, человек в безопасности, только будучи островом. Предпочтительно — необитаемым. Двое — для гармонии уже чересчур. Толпа для гармонии — смертельна. В конце концов, с появлением второго человека перенаселение наступило даже в раю.
Максим Немцов, координатор серии
Джозеф Коннолли (р. 1950) — британский писатель, автор десяти романов, ряда публицистических работ, а также биографий Пелема Грэнвила Вудхауса и Джерома Клапки Джерома. Прежде чем начать писательскую карьеру, пятнадцать лет проработал в книжном магазине. Вдумчиво собирает книги; его работа «Современные первые издания» стала классическим руководством для библиофилов. Книги Коннолли активно переводятся на европейские языки, а роман «Летние штучки» (1999) экранизирован в 2002 году французским кинорежиссером Мишелем Бланом под названием «Embrassez qui vous voudrez».
Пресса о романе «Отпечатки»
В «Отпечатках» слышатся отзвуки Айрис Мёрдок и П. Г. Вудхауса, однако роман этот — крайне самобытная работа, первоклассный едкий черный фарс.
Барри Форшоу, журналист
Джозеф Коннолли — странный человек. Каждая его книга — это сговор с читателем, столь редкий в современной литературе. В «Отпечатках» Коннолли — на вершине своего могущества.
Financial Times
«Отпечатки» демонстрируют словесное пиршество Джозефа Коннолли, его неустанное наслаждение голосами в пылу боя. И в чудовищно очаровательном доме он предложит читателю особый подарок.
Independent
Джозефу Коннолли удалось написать всеобъемлющую аллегорию Беккетовских пропорций и открытости… Напряженный, эмоционально и интеллектуально завораживающий роман Коннолли — история света, который угас.
Daily Telegraph
Мешая насмешку с нежностью, Коннолли гениально схватывает ритмы диалогов и мысленных потоков. Это блестящий и совершенно оригинальный роман.
Kirkus UK
Семье
(и отпечаткам, кои Она накладывает)
Отец умер. Нет слов, как я счастлив. Или есть? Меня терзают сомнения. Давайте для начала проясню ситуацию: все, кто в полном восторге от меня, кто ослеплен моим блеском, кто смотрит на меня снизу вверх (короче, все мои знакомые — вот как можно с легкостью выразиться), недолго будут колебаться, ничуть не сомневаюсь, прежде чем стройным хором настоятельно заверить вас, что это редкость, понимаете ли — практически на грани непознанного, когда я, Лукас Клетти, оказываюсь хотя бы на полпути — наверное, так они выражаются, да? — к потере дара речи. Ибо я абсолютно всегда и все проговаривал — оживлял любое расположение духа, малейшую перемену или внезапный электрический спазм задолго, очень задолго до того, как другие чуяли хотя бы аромат его приближения. И все же, когда они сказали мне, когда меня ввели в курс дела, когда я наконец узнал истину и крепко уцепился за нее (осторожно притом и нежнейше ее поглаживая), так вот, то чувство, что охватило меня, я нахожу (именно так, поскольку я до сих пор нахожу его) совершенно буквально в любом смысле стремящимся к яркой, подлинной, искренней неописуемости. Наслаждение… могу лишь сказать, что меня переполняло наслаждение, хлынувшее глубоко изнутри и быстро созревшее, прежде чем прорвать оболочку: маленькие горячие побеги, каждый со своими большими надеждами, в поисках исхода — пар, неутомимо оседающий кристаллами повсюду во мне (а теперь и без меня).
— Мистер?.. Мистер Клетти?..
Похоже, сиделка, совсем еще девчонка, упрямо трусит за мной, слегка ускоряя бег в, быть может, легчайшем намеке на зарождающуюся панику, ибо она по-прежнему неспособна продвинуться на пути к моему пробуждению; она, вероятно, должна добродушно улыбнуться и разбудить меня. Так значит, я задремал. И это весьма непохоже на меня, как вы, наверное, уже знаете. Если я не желаю чего-то сознательно, оно обычно не происходит. Даже с другими людьми. Особенно с другими, собственно говоря.
— Мистер Клетти? Ваш… отец. Ваш отец… понимаете? Горе-то какое, мистер… что ж, теперь он отдохнет.
— Отдохнет? — как сейчас помню, спросил я, старательно вглядываясь в нее, я очнулся и оживился, насколько это вообще возможно. — Он отдыхает? Вы это хотите сказать?
Она опустила глаза, потом глянула в сторону. Этакая бедная зверюшка.
— Нет… то есть, да. Такое горе. Он только что скончался.
Я ощутил, что глаза мои тверды, как алмазы, и так же сверкают.
— Умер, — сказал я, вставая, дабы встретить ее лицом к лицу — да, ее и эту новость.
— Он… да. Умер. Мне правда очень-очень жаль.
И тут на меня накатило, меня прямо-таки распирало. Счастье — слишком милое и глупое слово, чтобы хотя бы задуматься о его использовании. Но внутри меня пробивались и бурно распускались цветы, их яркие соцветия переполняли меня, дарили мне радость. Восторг, что я ощутил, заставил все мое тело содрогнуться в непроизвольной судороге, краткой, но очень сильной (даже неловко вспоминать), оргазмической, затем она слегка отступила и разошлась глубоко внутри пульсирующими цепочками жаркой энергии, кои постепенно сами затухли в ветвистом и приятном покое. Раскаленные булавки испарины — я с испугом ощущал, как они растут из меня, торчат, подобно фабричным трубам, — теперь журчали обычными ручейками, покалывая лоб уже всего лишь пленкой сырости — сырости и прохлады.
— Умер, — сказал я (просто глядя на нее).
Я до сих пор иногда задаюсь вопросом, ощутила ли она хоть на малую долю то же самое? Вряд ли. Она видела многих — разве нет? — многих людей всех сортов в этом столкновении со смертью, что бывает только раз в жизни, и все они реагировали, могу лишь предполагать, по-своему. Подобно мне, однако — я думаю, никто.
— Вы хотите… увидеть его? (Она не смотрела. Не смотрела на меня.)
Я кивнул. Кивок, рассудил я, подойдет лучше всего. Для нет — нет, вот мой ответ, прямиком от Творца, никаких боковых ответвлений, крутых поворотов, маневрирования на запасных путях, всех этих головоломок в коробках, что составляют меня (что делают меня мной). Нет. Ибо я не хотел — разве нет? — совсем не хотел его видеть. Да когда я вообще этого хотел? Так что — нет. Но я все же хотел засвидетельствовать факт. Факт его отдыха, его кончины. Я просто хотел увидеть его труп. Но, боже правый, я ведь этого желал, разве нет? Долгие, долгие годы.
А затем, весьма неожиданно, передо мной распростерлось оно, столь долгожданное: отец, мой отец, который только сейчас потерял способность меня достать (он не ослабил хватку, нет, ее тянули, и тащили, и наконец вырвали из его рук). В комнате совсем не пахло смертью, хоть я этого ждал — нет, жаждал, я жаждал ощутить этот запах, дабы — может быть, не только в переносном смысле — очертить его, шагнуть внутрь и удержать вокруг себя… а потом, когда все уйдут, провести под ним еще одну, последнюю черту и на сей раз покончить решительно со всей этой историей.
Стерильный — да, я совершенно уверен, что это стерильность; но, помню, мне показалось, что стерильность была бы, даже если бы в комнате не осталось ничего, кроме довольно тонких и жалких занавесок (ноготки, я почти не сомневался, — это были ноготки, оранжевые и золотые, они оплетали свои набивные шпалеры, но все же так вяло свисали по обе стороны чопорных кремовых жалюзи, заточенных в сэндвич из толстого и пыльного стекла). Пол, по которому подметки моих туфель шлепали весьма устало, пока я приближался к лежащему человеку, шел штурмом на края комнаты, но не сдавался — словно был полон решимости взорвать предопределенные границы и незамкнутой осадой расположиться под каждой голой и несущей стеной; всего лишь одна плитка вперед и вверх, и борьба прекращена.