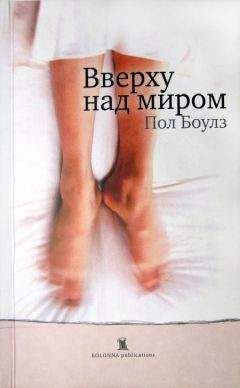— В сон клонит, — сказала она. — Хочу немного кайфонуть. А завтра можно уехать в Эмбахадорес.
Позже, перед самым рассветом, она прошептала:
— Веро, я люблю тебя, и Пепито тебя тоже любит. Почему ты не хочешь быть добрее к нам? Почему?
Она давно поняла, что эти уместные или же неуместные уговоры бесполезны, но ее постоянно преследовал один образ: она входит в квартиру, открывая дверь своим ключом, поскольку она — сеньора, а Пепито бежит ей навстречу с большой террасы, куда ему даже вначале не разрешалось заходить.
— Ты же знаешь всю эту проклятую историю, — сказал он, зевая. — Ты не имела бы и полста в неделю.
— Дон Хосе Гарсия Сото, — презрительно, нараспев произнесла она. — Мерзкий буржуй! Я рассказывал ей о дяде моего деда? Он был кардиналом Гонсальвес-и-Алькантара, ну и что из этого?
— Так он знает, что ты из хорошей семьи. Черт возьми! — Он помолчал минуту, а затем продолжил: — Неужели ты не понимаешь, что ему насрать, кто ты? Ты ему не нравишься. Все просто.
— Не смей говорить со мной в таком тоне.
Она знала, что не сможет вывести спор на новую территорию — в области, куда еще не ступала в прошлые разы, но этой темы нельзя было избежать.
— Потому что я не увешиваю себя мехами, как putas[16] у него дома.
— Да, ты сама это сказала! — воскликнул он. — Очень многое зависит от того, как ты выглядишь. В тот вечер у тебя ведь было время переодеться. Не стоило приходить на ужин с грязным лицом и в этих паршивых «ливайсах». Ты просто лентяйка и неряха.
Она изо всей силы ударила его кулаком в плечо, выпрыгнула из постели и встала голая, глядя на него сверху.
— Теперь ты на его стороне, — прошептала она, словно сама эта мысль была для нее невыносима. — Я знала, что ты — такой же, как он.
— Ох! — сказал он с отвращением и перевернулся на другой бок.
Лючита легла в постель. Прислушиваясь к звукам просыпающегося города, она вновь подумала о Париже.
Все последующие ночи были такими же: пару раз она ходила в ночные клубы и даже ухитрилась продать еще несколько картин, хотя и сказала Веро, что всего две. Ей это казалось логичным: чем меньше она будет на вид зарабатывать, тем щедрее он снабдит ее деньгами на переезд в Париж. Шли дни, и она неожиданно для себя начинала верить ему, когда он убеждал, что деньги появятся. У нее не было ни одной веской причины для того, чтобы изменить свое мнение: возможно, все дело в сочетании ряда обстоятельств. Веро и так никогда особо с ней не разговаривал, но теперь почти все время молчал, если только они не лежали в постели. Он мог весь день проваляться голый на террасе, читая; затем одевался и шел с друзьями обедать, и она не видела его, пока он не возвращался домой ночевать. Дважды он брал ее с собой в китайскую придорожную забегаловку на 12-м километре шоссе. Ей понравились танцы после обеда, но публика была удручающе провинциальна; когда Лючита сказала ему об этом, он помрачнел.
В последние дни Веро очень часто виделся с Торни, которого она все сильнее недолюбливала.
— Ненавижу, как он улыбается, — сказала она Веро. — Слава Богу, Пепито живет с прислугой. Хоть не видит Торни. — Потом она подозрительно добавила: — А что ему нужно?
— Нужно? Насколько я знаю, ничего ему не нужно. На этих выходных повезу его на ранчо.
Она посмотрела на него с недоверием.
— Веро, ты с ума сошел, — заявила она. — Зачем тебе везти его туда?
— Затем, что он на меня работает. Это для тебя так важно?
Лючита взглянула презрительно.
— Работает? Какую еще работу может выполнять Торни? Он же никогда в жизни палец о палец не ударил.
— Да-да-да, знаю, — терпеливо ответил Веро. — Для галочки он один раз числился на «Радио Насьональ». Но, в любом случае, теперь у него на пару недель есть работа. Будет устанавливать у меня аудиосистему.
— Торни?
— Ради Бога! Просто понаблюдает за тем, чтобы рабочие следовали моим указаниям. Если оставить их одних, они все сделают через жопу. Какая тебе разница, поедет Торни на ранчо или нет?
— Не нравится он мне, — просто сказала она.
Он рассмеялся:
— Но тебя ведь там не будет.
— В Сан-Фелипе? Да лучше мне в тюрьму сесть!
Он злобно посмотрел на нее.
— По-моему, тебе там понравилось.
Она ответила уклончиво:
— Змеи, сороконожки, да еще лианы все время по лицу хлещут. А жарища какая, прости Господи! — она открыла рот и задышала с трудом, припоминая.
— Да ты за все время ни одной змеи там не видела.
— Зато видела сороконожку.
— Просто дом старый. Они водятся в фундаменте.
— В этой стране, — сказала она, — хуже гор может быть только одно — твоя мерзкая tierra caliente.[17]
Торни приехал в восемь утра в пятницу. Они взяли многоместный фургон, поскольку намеревались забрать по пути сельскохозяйственные инструменты и запчасти для нового генератора. Как только Веро уехал, Лючита принялась рыскать по спальне и ванной, собирая вещи. Она решила, что обе ночи проведет на кушетке в комнате Пепито, и хотела быстро перенести пожитки, пока Палома, уборщица, не заметит ее и не спросит, зачем она это делает. Оставаясь одна, Лючита больше курила — из-за нервов. Но курение вызывало у нее дурные предчувствия: ей казалось, что лучше запереться в маленькой комнате с Пепито, нежели спать одной в большой спальне, где ее пугали густые заросли и высокие ширмы.
Перенеся свои вещи со всей квартиры в комнату Пепито, она села на кушетку, откинувшись на подушки, и закурила грифу. Пепито стоял на коленях на соседнем стуле и играл чем-то на столе.
— Мама, что это?
Она подняла глаза и увидела сквозь дым, что он нашел ее сумочку и теперь показывает частично сложенные банкноты.
— В смысле — «что это»? Деньги. Положи на место.
— Я-то знаю, — сказал он с умудренным видом. — Если б у нас были деньги, мы бы поехали в Париж, да?
Она в восторге уставилась на него: для пятилетнего мальчика Пепито был весьма смышлен.
— Помнишь Париж: Abuelita[18] и птичку в клетке? — с надеждой спросила она.
— Нет.
— Зеленая птичка все твердила: Apaga la luz, hombre![19] И все смеялись. Ты ведь помнишь?
— Не помню! — сказал Пепито, пристально глядя на нее.
— Это было всего год назад, — она умолкла, подумав о Париже. А через минуту встала, взяла сумочку и зашагала через всю комнату.
— Ты куда? — его голос стал резким от обиды.
— На террасу.
— А почему мне нельзя? Почему?
— Перестань. Отвяжись от меня! — Он вцепился ей в ногу, царапнув ногтями по грубой джинсовой материи. Лючита оттолкнула его с такой силой, что он опрокинулся на спину и упал на пол. Потирая затылок, Пепито медленно приподнялся, готовый расплакаться.
На террасе было жарко: Лючита лежала на кушетке с широким тентом и писала письмо матери в Париж. «В ночном клубе, где я работаю, все хорошо, сообщала она, — к лету обязательно накоплю денег и вернусь домой». Вскоре она встала и пошла на кухню за стаканом воды. Веро, разумеется, позвонил бы, но она не любила отдавать слугам распоряжения и вызывала их, только если хотела есть. Выпив холодной воды, она вернулась на террасу и закончила письмо. Затем прилегла и немного помечтала, наслаждаясь первым дуновением ветерка, возможно, предвещавшего дождь. Когда она зашла в дом пообедать, налетели кучевые облака, надвигаясь со всех сторон на оставшийся лоскут ясного неба.
Они с Пепито съели сэндвичи с салатом за столом в маленькой спальне. Лючита приучила сына ложиться сразу после обеда вздремнуть, главным образом потому, что сама не могла обойтись в этот час без сиесты. После того, как Пепито затих, она посидела пару минут на кушетке, читая, а затем растянулась и тоже уснула.
Пробуждение от тяжелого послеполуденного сна было медленным. Она увидела, как Пепито вышел из комнаты, услышала, как дождь барабанит по балкону, а затем снова заснула — возможно, надолго. Следующее ощущение — Пепито тычет ей пальцем в шею:
— Мама! Мама! Телефон!
Она встала и, пошатываясь, направилась в кухню. Палома сидела посредине за большим столом, показывая в угол. Лючита подошла и сняла трубку. Звонил Веро.
— Что случилось? — спросила она.
Она услышала, что он смеется.
— Просто захотелось передать тебе привет! Узнать, как ты там. Мы — в «Ми Сьело», помнишь? Маленькая кантина на плазе. Пришли сюда четверть часа назад.
Они немного поговорили. На заднем плане, перекрывая его голос, зазвонил церковный колокол. Она слышала, как тот гудит, заглушая шум бара.
— Увидимся завтра вечером часов в восемь, — сказал он ей и повесил трубку.
Он прошагала мимо Паломы, смущенно улыбаясь, зашла в библиотеку и встала, глядя на террасу, омываемую дождем под темным небом. За окнами стояла серая стена льющейся воды. «Дождик льет на целый свет»,[20] — вспомнила она. В детстве, когда она учила английский, ей нравились эти стихи: благодаря им дождь казался дружелюбным. Здесь же они утрачивали смысл: это был другой дождь — безудержный и угрожающий.