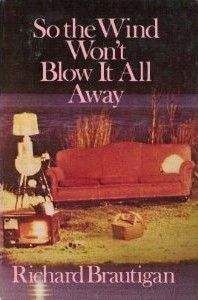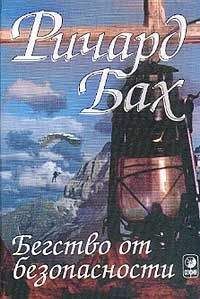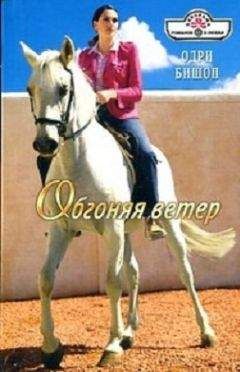Круто изменив тему разговора, я привел свой план в действие и спросил, не отдал ли он кому–нибудь свое ружье 22–го калибра.
— Нет, — ответил пацан, слегка обалдев от такого резкого перехода. — Причем тут ружье? Что мне теперь делать? Я ж заработаю пневмонию в этом гараже.
Я с трудом, но все–таки скрыл ужас, мгновенно накативший на меня, когда он произнес слово «пневмония».
— Не заработаешь, — сказал я.
— Откуда ты знаешь? — спросил он.
— У меня есть матрас.
Он внимательно на меня посмотрел.
— У меня тоже есть матрас, — сказал пацан. — Только предки не дают постелить его в гараже.
Отлично! — подумал я: план становился реальностью.
— У меня есть запасной матрас, — сказал я, нажимая на слово «запасной». Фраза произвела на мальчика впечатление, но он понимал, что за ней скрывается ловушка. И ждал.
Я тонко и осторожно доводил до его ума нужную мысль, работая английским языком, словно нейрохирург, разделяющий скальпелем нервные волокна.
— Я меняю свой матрас на твое ружье.
Выражение лица ясно показывало, что идея не пришлась пацану по душе. Он достал из кармана перекрученный горбатый чинарик. Вид у окурка был такой, словно его выудили из романа Гюго.
Еще до того, как пацан успел закурить, я сказал:
— Где–то я недавно читал, что в этом году обещают ……………… очень …………….. холодную ………………. зиму. — Я тянул ключевые слова до тех пор, пока они не стали длинными, как декабрь.
— Блядство, — сказал пацан.
Так мне досталось ружье, и оно же привело меня потом к фатальной ошибке, когда вместо гамбургера я купил коробку с патронами.
Если бы родители не выгнали мальчишку в гараж, я никогда бы не поменял свой матрас на его ружье. Если бы они отправили его в гараж, но дали с собой матрас, ружье бы мне тоже не досталось. Я получил его в октябре 1947 года, когда послушная времени природа только готовилась закрыть на зиму пруд.
Все изменилось, когда над прудом подул дождливый ветер — первый вестник осенних штормов, но сейчас до них еще далеко.
Это в будущем.
В настоящем я смотрю, как груженая мебелью машина с громким рычанием ползет по дороге, почему–то не приближаясь ко мне ни на сантиметр.
Этот мираж не желает отвечать за реальность. Он стоит на месте и насмехается над всем, что происходит в действительности. Я хочу превратить мираж в настоящее, но он сопротивляется. Он не становится ближе.
Эти люди и их грузовик застряли в прошлом, словно детский рисунок в четвертом измерении. Я хочу, чтобы они приехали, но они не едут, и меня перебрасывает в будущее — в ноябрь 1948 года, когда 17 февраля и яблоневый сад уже стали историей. Суд признал меня невиновным в преступной небрежности при обращении с огнестрельным оружием.
Многим хотелось, чтобы я отправился в колонию, но меня оправдали. Разразившийся скандал вынудил нас уехать, и я живу теперь в другом городе, где никто не знает о том, что произошло в февральском саду.
Я хожу в школу.
Я учусь в седьмом классе, мы проходим американскую революцию, но американская революция нисколько меня не интересует. Меня интересует все, что хоть как–то связано с гамбургерами.
Почему–то я уверен, что только абсолютное знание о гамбургерах может спасти мою душу. Если бы в тот февральский день вместо патронов я купил гамбургер, все было бы иначе, а значит, теперь я просто обязан знать о гамбургерах все.
Я хожу в библиотеки и, поливая книги интеллектуальным кетчупом, добываю из них информацию о гамбургерах.
Жажда гамбургерных знаний поразительным образом приобщает меня к чтению. Одна из учительниц не на шутку встревожена. Она звонит матери и долго выясняет, в чем причина моего столь гигантского интеллектуального прорыва.
Мать говорит, что я просто люблю читать.
Учительницу это не удовлетворяет.
Она просит меня остаться после уроков. Учительнице не дает покоя мои так сильно выросшие способности.
— Ты слишком много читаешь, — говорит она. — Зачем?
— Люблю читать, — отвечаю я.
— Этого недостаточно, — говорит учительница, сверкая глазами. Все это мне не нравится.
— Я разговаривала с твоей матерью. Она сказала мне то же самое, — говорит учительница. — Но неужели ты думаешь, я поверю?
Предыдущая моя училка была помешана на дисциплине и могла, особо не раздумывая, ударить ученика, но эта прямо у меня на глазах превращается в опасного врага.
— Что здесь плохого? — спрашиваю я. — Мне просто нравится читать.
— Что ты себе думаешь? — кричит учительница так громко, что появляется испуганный завуч и уводит ее к себе в кабинет переживать истерику.
За нервным срывом последовал восстановительный период, месяц на больничном, полный покой и перевод в другую школу. После серии замен в классе, наконец, появилась новая учительница, которой нет дела до того, зачем я так много читаю, и я могу спокойно продолжать свои исследования гамбургеров в надежде достичь просветления через абсолютное знание об их происхождении, повадках и основах функционирования.
Оглядываясь сейчас назад, я понимаю, что гамбургеры были для меня чем–то вроде ментальной терапии, иначе я бы просто сошел с ума — происшествие в яблоневом саду не относится к разряду событий, способных воспитать в детях позитивное отношение к жизни. Вызов был брошен самой сути моей натуры, и я ухватился за гамбургер, как за первую линию обороны.
Достаточно взрослая наружность — мне было тогда тринадцать лет, но, слишком высокий для своего возраста, я вполне мог сойти за пятнадцатилетнего — позволяла мне прикидываться корреспондентом школьной газеты, которому нужно написать статью о гамбургерах.
Легенда давала доступ почти ко всем поварам городка, в который нам пришлось переехать. Под предлогом интервью я расспрашивал их о работе, неизменно сводя разговор к гамбургерам. С чего бы ни начиналось интервью, заканчивалось оно всегда гамбургерами.
Юный талантливый репортер школьной газеты (я): Когда вы приготовили свой первый гамбургер?
Повар–мексиканец лет примерно сорока, слегка потрепанный: Вы имеете в виду, как профессионал?
Репортер: Да, как профессионал, но можно и как любитель.
Повар–мексиканец: Дайте вспомнить. Я был еще совсем мал, когда жарил свой первый гамбургер.
Репортер: Где это происходило?
Повар–мексиканец: В Альбукерке.
Репортер: Сколько вам было лет?
Повар–мексиканец: Десять.
Репортер: Вам нравилось это занятие?
Повар–мексиканец: Простите, не понял?
Репортер: Испытывали ли вы душевный подъем, когда жарили свой первый гамбургер?
Повар–мексиканец: О чем вы собираетесь писать статью?
Репортер: О поварах нашего города.
Повар–мексиканец: Вы слишком много спрашиваете о гамбургерах.
Репортер: Вы ведь часто готовите гамбургеры, не правда ли?
Повар–мексиканец: Да, но я готовлю и другие блюда тоже. Почему вы не спрашиваете о горячих сэндвичах с сыром?
Репортер: Позвольте мне сначала закончить с гамбургерами. Затем мы перейдем к другим блюдам — в том числе, и к горячим сэндвичам с сыром или к чили.
Повар–мексиканец: У меня еще ни разу не брали интервью. Я бы с удовольствием поговорил о чили.
Репортер: Не волнуйтесь. Мы обязательно поговорим о чили. Я ни минуты не сомневаюсь, что моим читателям будет интересно узнать как можно больше о чили, но сперва нужно закончить с гамбургерами. Значит, тот гамбургер, который вы приготовили в десятилетнем возрасте, был любительским?
Повар–мексиканец: Кажется, да. Мне не платили за него денег.
Репортер: А когда вы приготовили свой первый профессиональный гамбургер?
Повар–мексиканец: Вы имеете в виду, когда мне впервые заплатили за гамбургер?
Репортер: Да.
Повар–мексиканец: Это была моя первая работа. 1927 год, Денвер. Я приехал помогать дяде в гараже, но мне не нравилось возиться с машинами, а у двоюродного брата было маленькое кафе рядом с автовокзалом; я стал работать у него на кухне, и скоро получил отдельную смену.
Мне тогда было семнадцать лет.
С тех пор я повар, но я умею готовить много других блюд, а не только гамбургеры. Например…
Репортер: Давайте сначала закончим с гамбургерами, а потом перейдем к другим блюдам. Можете ли вы рассказать о каких–то интересных случаях, связанных с приготовлением гамбургеров?
Повар–мексиканец (не понимая, что от него хотят): Какие могут быть случаи с гамбургерами? Бросаешь котлету на гриль и жаришь. Потом переворачиваешь и кладешь на хлеб. Вот вам и гамбургер. Что еще с ним можно делать? Ничего особенного.