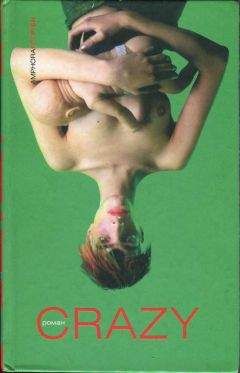На следующий день ко мне домой заглядывает полиция и интересуется у моих родителей, дома ли я. И для разнообразия я дома. У меня короткий перерыв в многоступенчатых полевых исследованиях. Нет ничего лучше эмпирического доказательства. Факты нелицеприятны, но они проливают свет. Полиция забирает меня в участок. Родители даже не спорят. Они никуда не годятся. Я бы не назвал их даже соотечественниками. И уж тем более братьями по духу, по крови или хотя бы по слюне. Просто никуда не годные родители.
— Мне по…ую! — говорю я. — А вас на…уй!..бать вас по сто раз на дню.
Вот как они обращаются с элитой: губят ее на корню. Великие мира сего были подобны мне. Непобедимые братья-берсерки. В участке я высказываюсь исключительно по делу. Выражаясь блестящим английским языком, я продолжаю произносить слова, которые привносят в мою жизнь такую вещь, как цель:
— …бать вас в жопу, вонючие ублюдки….бать,…бать, не пере…бать.
Я говорю это медленно. Потом быстро. Согласен, что звучит это не особенно свежо, зато означает предельно много. С каждым употреблением этого слова на свет рождается новый, едва уловимый оттенок смысла. На это они мне отвечают (тоном судьи Уолтера, приказывающего бегать на коленях):
— Нет, крысеныш, этот фокус у тебя не пройдет, даже не надейся. Учитывая тяжесть совершенного преступления, сюсюкаться с тобой никто не будет. Ответишь по всей строгости закона. Как взрослый. Получишь путевку в жизнь, крысеныш. С билетом в один конец, ты понял? Все, достаточно с меня идиотизма. Беру последнее слово. Теперь будет звучать моя версия событий:
— Жизнь начинается прямо здесь. Она воплощается в моем лице. В моих глазах. По правде говоря, я вижу все наоборот. А местами и подавно ничего не вижу, кроме черноты. Позвольте объяснить. Однажды темной ночью пятнадцать лет назад доктор Зол (я хорошо запомнил его имя) поменял мои глаза местами. Мать в тот момент за мной недосмотрела. Доктор Зол уронил их на пол, но никто их не вымыл. И вот вам результат: левый, глаз у меня вместо правого, а правый — вместо левого. Большая часть инопланетных пришельцев-зомби-друзья моих родителей, судя по их маниакальным именам: Слош, Зурзур, Блисс. У отца тоже случилось что-то с глазом. Он выражается словно ученый. Теперь он на моей стороне (и мама тоже) и молит Бога, чтобы меня признали невиновным. Похлопывает меня по плечу и говорит, что иногда мы все слишком бурно на что-то реагируем. Я спрашиваю у него, что приключилось с его глазом: он у него красный и слезится. Он отвечает, что когда из тебя перестает выделяться юмор, то рано или поздно нервы начинают лопаться от давления:
— К черту мою внешность, сынок, я оклемаюсь к заседанию суда. В этом нет ничего необычного, учитывая, сколько мне лет. Очень любезно, что ты поинтересовался.
Я на секунду закрываю глаза. Нет ни единого направления, в котором меня не тошнило бы смотреть. Я думаю о тех днях, когда я стеснялся даже прикасаться к девчонкам. Бывало, я просто сидел напротив какой-нибудь из них — в другом конце комнаты, как истукан. И мне казалось, что все, что от меня требуется, — это сидеть и пялиться на них. И что-то обязательно случится. Девчонка сама подойдет, заберется рукой мне под одежду, и вот мы уже трахаемся. Но они так и продолжали сидеть на месте и скучать, задавая себе один и тот же вопрос: все ли со мной в порядке. Они больше не посмотрят в мою сторону. Их родители скоро придут с работы. Они ожидали животной страсти. Что ж, в то время я был слишком робок. Наверное, это тоже шло в зачет, но только никогда не окупалось в самый ответственный момент. В скромности есть особое обаяние, но она никак не способствует раздеванию. Еще я думаю об гороподобных, обожравшихся арахиса слонах, топчущих детишек в зоопарке просто потому, что они так огромны, что просто не замечают, что на что-то наступили. Или о львах и тиграх, преследующих и разрывающих в клочья все, что движется, особенно зебр и антилоп. Равно как и все тех же детишек в зоопарке, если те попадают им в клетку. Последнее слово: дайте мне гитару. Это будет для всех недовольных в этом зале. Нет, серьезно, я думаю о миссис Франчайз, моей учительнице испанского. Метр двадцать ростом. В прошлом году она написала моей матери записку: «Куда же запропастился старина Бобби? Я по нему соскучилась. Мы все соскучились. Думаю, стоит отыскать его и вернуть обратно». Бринь, бринь, уа-уа-уа. Довольно сюрреалистично. Мать показала мне записку:
— Знаешь, мне тоже очень хотелось бы узнать, — сказала она, моргая и улыбаясь, словно вурдалак, — куда это наш старина запропастился.
Давайте будем размышлять логически. Но только, пожалуйста, без паники. Я думаю, можно уверенно утверждать, что старина Бобби к нам больше не вернется. В процессе эволюции он был проглочен новым Бобби.
НАВЕРНОЕ, ЭТО ВСЕ из-за острых сосисок. Никаких обид, только не подумайте, что я жалуюсь. Я не занимаюсь подобного рода нытьем. Нет-нет. От этого все равно не будет никакой пользы: ни вам, ни мне. Да и вообще. Спросите любого. Все вам скажут, что здешние острые сосиски — мое любимое блюдо. У меня есть кое-какие планы, и я вам о них расскажу, раз уж именно это от меня и требуется. Но сначала позвольте рассказать вам о своем желудке, который был готов вот-вот взорваться. Как я уже заметил ранее, мне кажется, что все дело было в том, что я что-то не то съел. Стыдиться тут, в общем-то, нечего. Это была типичная агония с так хорошо знакомой мне болью. Я потер свой дряблый живот и пощипал вялые мускулы. Новая боль вычитается из старой. Так что я стал ждать, пока обе пройдут. Тут мое внимание привлекло что-то на потолке. Я поднялся на ноги. Стоя, я разглядел на потолке двух пауков, но они тут же скрылись под штукатуркой.
«Ага, я тоже умею делать такие фокусы, — подумал я, — но вот ведь что любопытно — когда вылезаешь обратно, ты все еще того же пола? Неплохо бы глотнуть водички». Я вышел в холл, и тут меня накрыло. Ноги одеревенели. Я ощутил, что Всемогущий наш Господь обратил на меня чересчур пристальное внимание. Меня бросало в дрожь и выворачивало наизнанку. «Быштро в шортир!» — прошамкал он. И тут меня будто насквозь прострелили из ружья. Я аж подскочил на месте. Мой сфинктер, этот демонический мускул, сжался. Меня штормило. На окаменевших конечностях я умудрился добраться до уборной. Еле дыша. Внутри меня имелся запас кислорода, но я почему-то никак не мог им воспользоваться. Я был на пороге смерти. Срочно на толчок! Стянув штаны, я плюхнулся на сиденье, и то, что было повинно в этом злокозненном желудочно-кишечном мятеже, словно ракета, просвистело прямой наводкой в глубины унитаза. Одно движение, и вот моя проблема, теперь такая очевидная и коричневая в своей болезненности, смывается с глаз долой. Я улыбнулся и даже немного посмеялся, как обычно, над своими неурядицами и над тем, что постоянно наступаю на одни и те же грабли. Со мной случается одно и то же. Постоянно. Каждый раз, как бы я ни старался этого избежать. И меня это уже пугает. Большинство людей заранее испытывают беспокойство. Что-то внутри дает им сигнал приготовиться к кое-каким рокировкам. Кому угодно, но не мне. Позвольте мне начать с этой жажды, которую я испытываю. Я называю ее дырой, потому что мне представляется, что именно так она и выглядит. Круглая дыра. Совсем не обязательно глубокая. Позвольте мне начать все сначала. Я прошу вашего разрешения сделать небольшое отступление (чтобы кое на что взглянуть) — скажем, часов на двенадцать. С шести утра до шести вечера. Надеюсь, это не слишком много. Лучше всего делать отступления утром (это честное время суток). Так что я вернусь к обсуждению этого деликатного вопроса, который нам всем так нравится, во время ужина. Надеюсь, это будут острые сосиски. Я, видите ли, боюсь того, что никогда больше не потяну ноздрями воздуха, пахнущего свежескошенной травой или деревом с лесного склада. Знаю, это звучит сентиментально. Но разве не все мы в чем-то сентиментальны? Навоз, хлорка и всевозможные цветочки. Деревья, пахнущие спермой. Бензин — этот навязанный нам запах. Когда я был ребенком, мать как-то поскользнулась и упала на заправке «Мобил». Времени почистить одежду у нее не было. Мы гнали целый день — так торопились домой. Так что оставшуюся часть дня от нее пахло бензином. Этот запах вызывал у нее слезы, но мне он понравился. Не надо стесняться этого запаха — носите его, если он к вам прилип, как это делала моя мать. Вот что я думаю. Убивать себя я не собираюсь. Эта мысль никогда не приходила мне в голову. Она все больше крутилась снаружи. Вокруг да около. На эту предполагаемую прогулку я пойду спокойным шагом: никакого бега (я знаю, это вредно), ничего такого — только четкие, выверенные шаги. Левой, правой; левой, правой. И я незаметно проскользну отсюда туда. Это будет идеальное решение проблемы для парня типа меня, ударяющегося в слезы от тоски по вещам, между которых он оказывается. Я плачу, когда вижу, что люди любезны по отношению друг к другу. Я страшно сентиментален. И мне чертовски недостает зависти. Я испытываю искреннюю радость за этих людей, которые воздерживаются от взаимных оскорблений. Я восхищен их самообладанием. Пролито уже слишком много крови. Это общепринятое мнение. Я промокаю слезы и стираю с рукава сопли, а поблескивающие полосы у меня на руках напоминают о том, что я вновь вступил в дивизион угрюмых. Ипохондрик высшего разряда. Слюна у меня во рту беспокоит меня (а именно — что я должен глотать, а не плевать, плевать, плевать) больше, чем мое будущее. Мне хотелось бы почувствовать нечто человеческое, но я знаю, что это слишком амбициозно и расплывчато. Так что, вполне возможно, в этом и есть моя цель. Человеческое непонимание. Нет. Я бы сказал, что никого не будет рядом со мной. Я бы сказал, что у меня много работы и мне нужно побыть одному. Мне необходимо сконцентрироваться. Мне требуется уединение. Вы впустую теряете время, околачиваясь поблизости. Именно поэтому мне требуется ваше разрешение. Я оказался на земле для того, чтобы ходить и думать, а не для того, чтобы меня преследовали люди, потакающие моим слабостям (что подразумеваете вы и эта великодушно предоставленная возможность). Иногда я смотрю на свое лицо и спрашиваю себя: «А не гриб ли я?» У меня ужасное лицо. Какое-то никчемное. Один повар сказал мне, что пищевая ценность грибов равна нулю. Я испытал шок. Всю свою жизнь я считал, что грибы — наш основной овощ. Окружающие не позволяют мне плакать. Они вынуждают меня останавливать свои слезы. Так что я прекращаю плакать. Слезы не есть моя цель (это если по этому поводу имеются какие-либо сомнения). Я проведу свою жизнь в одиночестве. Если бы вы дали мне месяцев шесть отпуска, я искренне верю, что смог бы найти себе пару. Но за двенадцать часов этого точно не случится. Я бы пооколачивался в многолюдных забегаловках, представляясь холостяком тем, чьи глаза меня поманят. Я бы быстро освоился. Надеюсь, что это не столь важно — мое общение с другим человеком. Видите ли, люди взаимодействуют со мной по-разному в диапазоне «любовь — ненависть». А у меня есть только одна цель — заполнить чем-то мою маленькую дырочку. Вытянуть ноги там, где это не запрещено, обмякнуть, перестать смущаться по поводу элементарных вещей, вспомнить свой первый день рождения (уж один-то у меня точно был — к первому родители обычно относятся щепетильно) и сколько сахарной глазури я размазал по лицу. Фотографии. Если бы меня представили днем позже, она — эта сокровенная карточка — была бы сложена мною и аккуратно засунута в передний карман. Я знаю, какими ненадежными могут быть задние карманы. Мне хорошо известно, как вещи ездят в них туда-сюда, затем выскальзывают, падают и валяются где-нибудь на тротуаре. Вам известно о каждом моем шаге, а мне — о том, что сделать его есть привилегия, что мне оказано доверие и что я должен быть за него ответственным (даже если на самом деле мне никто не доверяет). Я признателен за это. Если моей голове суждено слететь с плеч (хоть я и не вижу причины для этого), я бы предпочел быть уверенным в том, что она не покатится по улице и не расстроит похоронную процессию или просто не отлетит в толпу. Если я буду снимать с себя одежду, обещаю сложить ее стопкой (как меня учили), чтобы другие мужчины или женщины могли ею воспользоваться после меня. Кажется, я обнаружил еще один из своих интересов: раздевание. Я чувствую себя дружелюбнее, будучи голым. Это имеет отношение к свежескошенной траве. Мне хотелось бы утопить свою задницу, локти и живот в свежескошенной колючей траве. Я бы не стал ее есть, потому что мне хорошо известен темперамент моего желудка. Простые вещи могут быть очень опасными. Но я вздремну, и мне приснятся животные (полярный медведь, выдра, обезьяна и мангуст). Моя задача — вернуться улыбающимся. И я собираюсь достичь этого просветленного состояния, будучи расторопным и держа свою антенну торчащей вверх и готовой улавливать всю, в том числе и второстепенную, информацию. И еще я буду дышать. Дыхание много значит для меня. Оно многое мне дает. Обычно больше, чем достаточно. Я буду прикасаться к вещам, которые мне нравятся, и буду осторожным и внимательным по отношению к вещам, которые не столь приятны. Но и к неприятным вещам я тоже буду стараться прикоснуться. Дерево. Я люблю дерево. Прижимаюсь к нему щекой и прокатываюсь всем лицом по его поверхности. Это порождает желание целоваться. Но лучше я не буду пускать слюни. Влага пагубна, я знаю. Покоробившаяся доска — жалкое зрелище. Так что я буду осмотрителен и аккуратен. Я совсем не хочу заработать занозу. Когда мне было девять, я занозил себе членик, и мой отец пришел ко мне с раскаленной иглой, говоря, что намерен положить этому конец. Я выпорхнул через окно, а следующее, что я помню — как я сосу желе через соломинку. Вы даже не можете себе представить, какими опасными могут быть занозы. Есть еще какие-то проблемы, с которыми я столкнулся? Их слишком много, чтобы перечислить все, так что я просто откровенно признаюсь: они есть. Я упустил пару неплохих возможностей. За мной увязалась большая птица. Она нарезает круги над моей головой, поджидая, когда я упаду и сдохну, чтобы сожрать меня. Ситуация «выживает сильнейший» налицо. И чем дольше я продолжаю держаться на ногах, сопротивляясь смерти, тем более голодной становится птица. Я радостно продолжаю идти по улице. Моя отвага обращает на себя внимание. Птица делает жалкую попытку атаковать мою голову. Я уворачиваюсь от сильной гадины. Если белый сгусток попадет мне в глаза, она меня одолеет. Она расклюет меня на части, пока я буду пытаться вновь что-либо увидеть. Птица, безнравственная до мозга костей, отчаянная и злобная, устремляется вниз и атакует меня снова, несмотря на все мои преимущества. Щипок когтями и удар клювом — это максимум, который я могу позволить. Я хватаю птицу за горло и сжимаю так сильно, что она испускает дух. Именно так. Я не военный, однако тоже верю в самооборону. В том, что касается некоторых вещей, я силен, как персонаж комиксов. Надеюсь, вы знаете, что это справедливо для всех мужчин и женщин. Дремлющие внутренние силы. Я не говорю, что все мы боги или что я стремлюсь стать одним из них, но все мы — способны иногда отличиться. Интересно, что произойдет, когда банда новорожденных младенцев оторвется от материнской груди и попытается пожрать меня своими беззубыми ртами? Но это уже совсем другая история. Нет, я не стал бы хватать их за ноги и колотить их одутловатые тельца о стену. Я бы стал нашептывать им разные истории-то, что пренебрегали делать их родители. Например, о коллизиях водителя автобуса, или о прорыве канализации, или о дурачествах кровельщика. Я доставляю удовольствие. Прямиком направляюсь в бакалейную лавку, покупаю пачку жвачки и надуваю пузыри до тех пор, пока челюсти не начинают отваливаться. Я прогнозирую безупречное путешествие, словно я безупречный агнец. Я хранил это в тайне. Никто из живущих на планете этого не знает. Никто из ныне живущих. Это известно некоторым духам, но они держат свои рты на замке. Станьте приятелем духов, и вы поймете, что такое настоящая преданность. Я имею в виду самую крутую верность. Когда стены покрываются холодной кофейной испариной (а такое случается), духи уверяют меня, что беспокоиться не о чем. Секреты размножаются внутри меня, и я запросто могу умереть, если не буду аккуратен (от давления и всего такого). Но пока я еще не взорвался. Поразительно, насколько прочен человеческий эластик. Привидения обдувают меня струями прохладного воздуха. Я готов написать свое имя тысячу раз, если хотите. Если это единственный способ заставить вас поверить мне. Каждый раз, когда я нахожусь в группе людей, я про себя выкрикиваю названия известных книг и их знаменитые первые предложения. Это вселяет в меня мужество и помогает оставаться невидимым, безоружным или просто быть частью группы. Я чувствую себя как без рук, когда они просто свисают с обеих сторон. Присоединение — мой статус. Я могу одеться в цвета земли или во все голубое — в зависимости от настроения группы. Летом — в желтое или оранжевое. Думаю, в вопросах групп я профессионал. Все здесь одеты в белое, но я-то знаю, что никто из нас не святой.