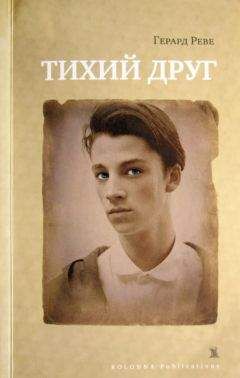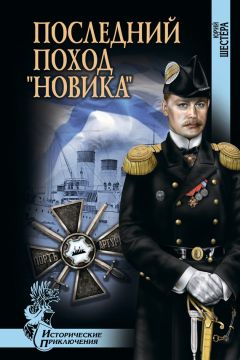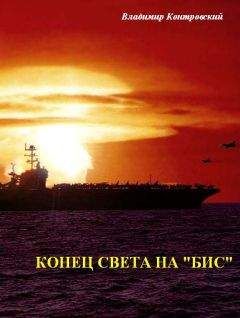Но мотор работает безупречно, я проезжаю Мёйден, Димен; и вот, наконец, пошатываясь, открываю дверь стоянки, и чуть позже, гордо неся найденную дичь, шествую к своей квартире, при входе в которую я с удовольствием констатирую, что болотом здесь не пахнет — напротив, присутствует привычный обезьяний запашок.
Внутри царствует, как я и говорил, одушевленная тишина. Я должен бы теперь, когда печка, работающая на солярке, пыхтит вовсю, а Дениз и Жюстин, обнявши друг друга лапками за шею, растянулись на полу возле каминной решетки, чувствовать себя если уж не счастливым, то хотя бы в какой-то степени удовлетворенным. Ничего подобного. Почему, Бог знает. Вопрос о том, справедливо ли, да и возможно ли, чтобы человеческое сердце выдержало такой груз печали, легче задать, чем ответить на него. Если б Вими только вернулся обратно, неважно, будем мы ссориться или нет. Бессмысленные волны раздражения и ярости накатывают одна за другой. Не открывать дверь, если позвонят, во-первых; не отвечать на телефон; всю почту уничтожать, не читая; шестнадцать дней поститься или, во всяком случае, есть только сырую капусту; выпустить литр крови, чтобы слить Злые Соки и дать Клеткам возможность перегруппироваться — да, именно так! Никого больше не пускать в гости, все пошли вон, что эта шваль себе думает, что им здесь — бесплатное кафе? Больше никакого бесполезного трепа днями и ночами напролет — у меня нет времени на все их жеребьевки и дележ шкуры неубитого медведя. Кому не нравится, может повеситься с горя. Вот так и не иначе: я слишком немногих выгонял, собственно, если посчитать, то всего человек пять или шесть, да и то только после того, как доводил себя до пароксизма, до бессловесного жужжания ярости. Для начала Мамзель Игрек, вызывающая у Вими содрогания ненависти, может, как раз потому, что она nota bene[110] из-за него принялась сюда заходить, причем несомненно, что состояние ее здоровья от этих приходов постоянно ухудшалось. Наше же здоровье, божьей помощью, годами выдерживало ее посещения; дважды в неделю, за обедом, она рассказывала о том, что не знает, как устроены штепсель и розетка, что ее очки, наверное, недостаточно сильные, но если она вставит в оправу более мощные линзы, то зрение ее только ослабнет (неужели? — примечание автора), с каким неослабевающим постоянством в магазинах ее то обвешивают, то подсовывают гнилые фрукты или слишком короткий электрический шнур, говешку вместо огурца, вазочку с трещиной, забитые песочные часы, тесные туфли, книгу с недостающей главой, сыр со свищом внутри или сумку с таким замочком, который после первого раза использования невозможно открыть; но истинным бриллиантом в коллекции несчастий стал случай, произошедший с ней в автобусе номер 25, где у нее из сумки вытащили все ее состояние, насчитывающее 324 гульдена, которое хранилось там, свернутое в трубочку, — проработав более десяти лет в различных конторах, она так и не додумалась, что деньги можно положить не только в сумку или коробку, но и на обычный или сберегательный счет в банке. (На бис: воришка прикарманил также ключи и, очевидно, ее письма или другие бумаги с адресом, и на той же неделе, открыв незамененный замок, вынес из квартиры еще 23 гульдена.)
До этого имело место быть удаление вышеназванного чудо-доктора, чьи посещения крали наше время и раздражали, особенно после того, как у нас дома с ним случился нервный припадок, который всех переполошил и наполнил таким отвращением и ужасом, что, отчаявшись, мы уже были готовы пойти на всё и прекратить его мучения, но, в конце концов, после вызова скорой помощи в двенадцать ночи он бодренько отправился домой, потому что к нему тем же вечером «должны были приехать люди с камерами, чтобы снимать о нем фильм». Виму все это развлечение не понравилось, более того, показалось изматывающим, потому что наш Вими обладает крайне здоровым инстинктом уничтожения и удаления всего, что не имеет достаточно жизненных сил, в чем я ему, кстати, часто завидую; другим предметом моей зависти является его способность с восхитительным хладнокровием в мгновение ока подвергать опале того, от кого в первые дни знакомства он просто сходит с ума, как, например, выставленный за дверь молодой дебиловатый немец-националист Л., которого разгоряченный вечеринкой Вим в четыре часа утра нашел по дороге домой и взял с собой; по сравнению с его цветастыми речами блекли и меркли высказывания Профессора Прлвытскофского из комикса Господин Боммел и Серый Ужас, он нас еще долго преследовал, в основном потому, что для дневных визитов у него было очень удобное время работы; до тех пор, пока мы не догадались попросить его звонить в дверь определенное количество раз, чтобы мы знали, что пришел именно он и могли без опаски открыть, я имею в виду — не открыть.
Но и всех остальных — за дверь! Только тогда появится лучик света и свежий воздух. 22-летний молодой человек Р., удобства ради называемый также «черномазый», периодически вызывает во мне приступы ярости своей нежной заботливостью, рвением и тиранией, но потом все же вновь умиляет потому, что одевает свое худощавое тельце всегда так безупречно и элегантно, кожица его всегда так свежа и чиста и пахнет он лучшим мылом и одеколончиком, сверх того, он прекрасно умеет делать всякие чайные розочки и голубых голубков из бумаги, а потом рассовывать их по вазочкам, он совершенно потрясающе танцует твист и неплохо готовит, что является несомненным положительным качеством, но не компенсирует недостаток чувства юмора. (Стоит только сказать: «Я вчера оставил здесь два риксдалера,[111] а теперь их нет — ты их, случайно, не засунул себе в карман?» — и он, заикаясь и почти крича от ярости, неизменно попадается на удочку.) Ах, да, ему я, может быть, разрешу приходить, хотя бы потому, что он хорошо заботится о кошках, если я куда-нибудь уезжаю, а оно того стоит, — но я больше не потерплю, если он придет в солнечных очках, решаю я, — тогда я дам ему по мозгам, и так далее.
Но когда Жюстин, во всей своей восьмимесячной, на три четверти сиамских кровей красе, с громким мявом усаживается у меня на коленях, ко мне частично возвращается вера в жизнь, во всяком случае, в Бога, потому что этого бесподобного зверя мог сотворить лишь его Бесконечный Дух.
Я иду еще раз осмотреть дичь, которую слишком уж надолго оставил лежать на полу в коридоре, и начинаю довольно напевать что-то себе под нос, хотя мне и не по себе от предстоящего рано или поздно обезглавливания, в котором у меня нет ни малейшего опыта. Затем, погрузившись в размышления, аккуратно одеваюсь. Гораздо легче о чем-либо говорить, чем об этом же писать, в этом уж вы со мной согласитесь. Ну так вот, если вспомнить, что мне еще ни разу, несмотря на прилагаемые усилия, ни с кем не удалось обменяться хоть одним вразумительным словом о том, что я называю моей религией, то вы, надеюсь, не будете иметь ко мне претензий, если я и в дальнейшем откажусь от попыток что-либо объяснить. Люди меня, кстати, еще и не понимают, хоть ты тресни. Но, возможно, все было бы еще хуже, если б они меня понимали.
Так чудовищна была недавно описанная мною церковь на границе Шотландии или где-то неподалеку, и так мил этот храм, единственная известная мне церквушка, в которой можно выбрать место для сидения: в зале, на фасадном балконе, на первой или второй галереях, и в которой так уютно, что хочется даже остаться там жить. Внизу, у входа я встречаю А., который — как всегда, в приподнятом настроении — даже не подозревает, что не прошло и часу с тех пор, как он был зачислен в группу приговоренных к вышвыриванию за дверь надоедал, и сопровождает меня к первой галерее, почти над алтарем. Его чем-то притягивает католическая вера, а по моим обоснованным подозрениям, ему нравится красивая расцветка одеяния кардинала, авторитарный характер всего происходящего и то, что папу носят на стуле со сдвижной крышей над головой, что, видимо, услаждает его ленивые фантазии. Я повстречал его около года тому назад на собрании католического культурного сообщества под руководством Отца X, который служит обедни в этой церкви, его личность обратила на себя мое внимание, учитывая, что из паствы Отца X, по моим подсчетам, всего одиннадцать с четвертью процента следуют вышеупомянутым Принципам; на этом заседании разливали хорошее вино по разумной цене в 2,5 гульдена за литр, так что я вскоре в стельку надрался сам и — пригласив к себе за стол — напоил его, что в свою очередь, никому не помешало, так как последователи Истинной Веры, видимо, не во всем, но по отношению к алкоголю просто сама толерантность, а джин и настоящий, дорогой коньяк они заливают за воротник, что русский водку. (Мать малолетних детей из квартиры в государственной многоэтажке, средь бела дня, из запасов, видимых за витражным стеклом буфета, наливает гостям четыре стопки к кофе, часов эдак в одиннадцать утра, — так, к примеру; и это не слухи или достойная порицания попытка возвысить себя самого, но личный опыт; только вот очень жаль, что от этого толстеют.)