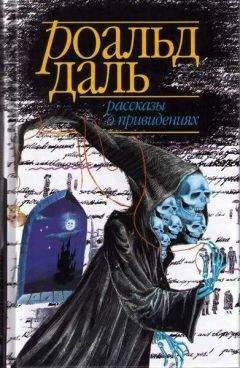Наша студия находилась примерно в миле от остановки 50-го автобуса. Нашими единственными соседями были завод по переработке стекла и железнодорожное депо, и то и другое стояли закрытыми добрую половину недели. Это было столь же укромное место, как та студия в горах Уэльса, где по слухам прятались Stone Roses. Лето означало лишь одно — что у нас больше дневных часов: Дигбет оставался суровым и монохромным, немного похожим на музыку «Треугольника».
После дня или вечера в студии мы часто ходили в «Пушечное ядро», джазовый паб неподалеку от Хай-стрит, где иногда играли какие-нибудь музыканты. Темные стены подсвечены старыми фотографиями, звуки пианино плывут из спрятанных колонок. Паб находился на углу Верхней и Нижней Тринити-стрит, где почерневший виадук с тремя узкими арками пересекал обе дороги.
Другой излюбленный нами паб — «Железнодорожный», второй зал которого был популярной площадкой у хардкоровых музыкантов. Иногда там играл и «Свободный жребий». Там все было выкрашено в черное — и черепичный навес над сценой, и бар. Стена завешана фотографиями из 60-х в рамках: Хендрикс, Би Би Кинг, Animals, The Who. Там проходили дешевые концерты практически каждый вечер; забегая вперед, скажу, это было отличное место для встреч группы.
После одного из этих вечеров записей и выпивки я сделал техническую ошибку на работе. Такое могло случиться и в другое время, я не знаю. Но набор для анализов крови вернулся из Французского госпиталя с жалобой, что образец неправильно маркирован. Они использовали его и сделали какую-то ужасную ошибку. Иск они предъявлять не стали, но клиента в их лице мы потеряли. Реальная жизнь больше походит на выступление, чем на запись. Управляющий установил, что это я сделал ошибку и не дал моему помощнику проверить контейнер. Я не стал им говорить, что у меня было похмелье после изрядной порции «Смирнофф», это мне уж точно не помогло бы. Я получил уведомление об увольнении через месяц, всего лишь за несколько дней до намеченного отпуска. Унижение от отрабатывания срока до увольнения, когда пришлось выполнять основные задачи под бдительным надзором управляющего, все дважды перепроверяющего, отразилось на моей игре при записи альбома. Стиль у меня стал жестким и минималистичным. Как и моя речь.
После нашего выступления с The Family Cat местный музыкальный журнальчик под названием «Пустой треп» предложил проинтервьюировать «Треугольник».
Мы встретились с интервьюером, студенткой Бирмингемского политехнического по имени Дженис, в пабе «Бойцовые петухи» в Мозли. Говорил в основном Карл. «Наши песни о том, как мы трое живем и чувствуем», — сказал он. «Это ощущение в музыке, не только в словах. Я пишу песни всю свою жизнь, но мне никогда не удавалось найти правильное звучание. Теперь, работая с Дэвидом и Йеном, я слышу нечто, проходящее сквозь песни, точно голос, эхо».
— Для вас важно то, что в группе вас именно трое? — спросила Дженис. Волосы у нее были выкрашены в черные и красные полоски. — Быть «Треугольником»?
— Сложно сказать, — ответил я. — Когда мы записываемся, мы добавляем разные инструменты. Я бы не возражал, если бы у нас появились клавишные или, может быть, кларнет. В студии, по крайней мере.
Карл покачал головой:
— Тогда бы мы перестали быть «Треугольником».
— Ну да.
Он бросил на меня ледяной взгляд. Я пожал плечами и закусил губу. Она задала Карлу несколько вопросов о его стихах, его пристрастиях. В ответ на неизбежный вопрос о его сексуальной ориентации, он ответил, что был женат, но теперь у него есть бойфренд — я. Дженис посмотрела на меня, точно увидела в первый раз.
— Дэвид, ты играл в блюзовой группе, — сказала она. -Это ведь довольно мачистская музыка? Может быть, даже женоненавистническая?
— Как Бесси Смит? Или Нина Симон?
Интервью не заладилось.
— Послушайте… музыка — это одно дело, а люди, ее играющие — другое.
— Не уверен, что их можно разделить, — сказал Карл. — Но это как в диалектике. Люди меняют музыку, музыка меняет людей.
Дженис задумчиво глотнула ром-колы. Затем посмотрела на Йена.
— А как вы вписываетесь в эту картину?
— Я играю на ударных.
Когда интервью появилось в июньском номере «Пустого трепа» в 1992 году, оно сопровождалось сценической фотографией группы. Наши лица казались неровными, призрачными, рты широко открыты. Но это был всего лишь дефект дешевого ксерокса. Дженис объявилась, позвонила Карлу и спросила, не хотим ли мы с ним встретиться с ней и выпить в Сэтли. Я был расстроен из-за потери работы, поэтому извинился и позволил ему пойти одному. Больше меня не приглашали.
Я был у Карла в тот вечер, когда она позвонила. Он мало что сказал, но то, как он пробормотал «Дэвид здесь», и удушливая интимность его голоса сказали мне достаточно. Я напоил его, это никогда не составляло труда, и спросил, что произошло. Он, казалось, испытал облегчение, рассказав мне, точно теперь его обременяло на одну тайну меньше.
— Мы слишком близки с тобой, — сказал он. — Это для меня как предохранительный клапан. Для сохранения баланса.
Я закрыл глаза и услышал, как он вздохнул.
— Прости. Дэвид, посмотри, посмотри на меня.
Он стоял возле окна, подсвеченный рыжим закатом. Его спина казалась выточенной.
Споры всегда порождали во мне странную смесь желания и беспомощности. Я протянул руку и коснулся его плеча.
— Не надо меня дурачить, — сказал я. Воспоминания об Адриане нахлынули на меня. Я почувствовал себя сессионным музыкантом. Его рубашка натянулась под моей рукой.
— Не думай, что я останусь здесь, что бы ни случилось.
— Я не твоя собственность, Дэвид.
— Да, блядь, ты не моя собственность. Речь идет не о моногамии, все дело в доверии.
В силу привычки моя рука скользнула по его груди, погладила его сосок. Он тяжело дышал.
— Хорошо, послушай. Дженис — просто друг. Мои отношения с ней могут закончиться в любой момент. Если ты и впрямь этого хочешь, они закончатся прямо сейчас. Но что было, то было. Если ты хочешь остаться со мной… Я вовсе не собираюсь тебя дурачить. Я не хочу тебя потерять.
Мы быстро поцеловались, затем он посмотрел на меня. Его глаза походили на темные провалы.
— Я прощен?
— Не хрена испытывать на мне свои католические штучки. Ладно. Я хочу сказать… все нормально. Точно.
Он не знал, чего мне стоило сказать это. Когда я закрыл глаза, передо мной возникло лицо Адриана. Но Карл был другим. Он крепко обнял меня, точно его потрясла мысль, что я могу нуждаться в нем. На улице зажглись фонари. Мы отправились в постель и медленно трахнули друг друга. Когда мы лежали, обнявшись, наш пот смешался, я подумал, может быть, Карл завел этот роман, чтобы испытать мою верность — или свою.
Пару раз после этого он говорил мне, что встречался с Дженис. Они перестали видеться несколько недель спустя, хотя Карл не говорил мне до тех пор, пока мы не отправились в тур в конце лета, и я спросил, поедет ли с нами Дженис.
— Может быть, придет на одно из выступлений, — ответил он. — Но мы больше не встречаемся, все закончилось в июне.
Я подумал, ты должен был сказать мне. Но едва ли мне хотелось, чтобы он рыдал у меня на плече. Он так и не рассказал мне, почему они порвали, так что я решил, что это из-за меня или из-за группы. Теперь это слилось в единое.
Первыми вещами, что мы записали, стали «Город комендантского часа» и «Стоячая и текучая вода». Поначалу нам никак не удавалось воскресить энергетику живого выступления. Карл хотел, чтобы группа записывала все разом, но Пит продолжал твердить, что лучше работать над каждым элементом по отдельности.
— Ты ведь не смешиваешь краски, когда они уже на полотне. Все сведется, не волнуйся. Думай так: диск уже существует, он витает в воздухе. Мы должны ухватить его. Что-то вроде спиритического сеанса. И точно восприняв эту идею буквально, он наложил такое искусственное эхо на ударные Йена и гитару Карла, что звук почти потерялся в собственных отголосках.
В те времена использование странных звуковых эффектов было чуть ли не обязательным для любой инди-рок-группы, которая хотела, чтобы ее воспринимали всерьез. Таким образом они доказывали, что не невинны, не являются ссыкливым малышом в теплой курточке. Все группы, начинавшие на «Creation» или «4AD» с наивным, случайным, сырым звучанием, теперь записывали сюрреалистические, вдохновленные наркотиками пластинки с тщательно продуманным ощущением дезинтеграции. Карл был новичком в таких делах — ему нравились The Cocteau Twins, чьи записи мне всегда напоминали обои Уильяма Морриса — и, казалось, был рад тому, что его вокал утопили в волнах искажений.
Мне пришлось сказать: «Если никто не услышит слов, то на хрена писать приличные тексты?»
Другой крутой примочкой в то время считался грязный звук американского хардкорового «андерграунда». Благодаря таким группам, как Husker Du, Pixies, Nirvana масса довольно спорного материала обрела коммерческий потенциал. В основном то была вполне традиционная поп-музыка, сыгранная в буйном стиле с тяжелым басом и кучей шума. Для английских рок-групп это стало напоминанием о том, что музыка может ранить. Американская пресса не считала это музыкой, не воспринимала ее: ей пришлось превратить это в «явление», чтобы выбросить это из головы, так же британская пресса поступила с панк-роком. Каждый саунд был определен последующим. Даже в «серьезной» рок-журналистике, каждый новый саунд становился в каком-то смысле ядром — core: хардкор, слоукор, спидкор, сэдкор. Кто следующий? А Майкл Болтон тогда «мягкий кор»? А Мадонна — «эгокор»? Когда зацикливаешься на слове, оно лишается всякого смысла.
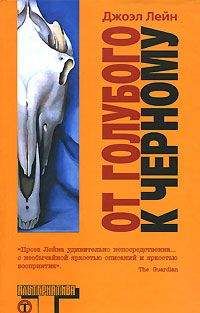


![Мет Уаймен - За стеклом [Коламбия-роуд]](https://cdn.my-library.info/books/117841/117841.jpg)