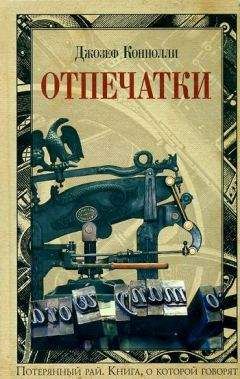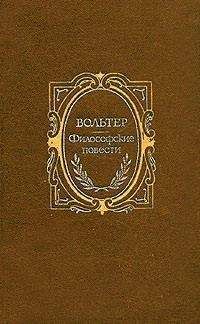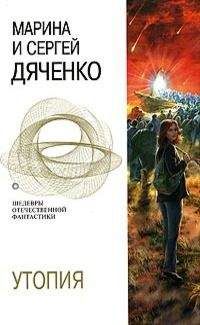— У нас где-то лежат «Вудбайнс».[16]
— Да ну? — удивился Бочка. — Не знал, что их еще выпускают. Погодите, они разве не военных времен? Их давно уже нету.
Майк и Уна дружно засмеялись над подобной нелепицей.
— Нет-нет, — уверил его Майк, роясь в среднем ящике почти черного буфета якобы времен Якова I. А затем, предлагая им закурить, он довольно извиняющимся тоном добавил: — Ну, сама пачка — да. Подлинная, года 1940-го, может, — но сигареты внутри свежие. Ну — относительно. Не то что бы мы их сами курили. Это вроде как реквизит. К тому же — нам не нравится, если честно… нарушать какие бы то ни было, гм, предложения Лукаса о том, как мы все должны себя здесь вести. Он был так добр к нам — нам кажется, это неправильно, понимаете, — ну, идти против него в мелочах. Когда он так много дает.
— Думаете? — уточнил Бочка, вытягивая эту чертову крошечную сигаретку из болотной выдвижной пачки на десяток, — и быстро ее зажег, прежде чем Майк, господи всемогущий, ну не знаю — успел вообразить себе Пресвятую Деву Лукаса или еще чего в этом роде, и предложить ему «Вудбайнс» с видом обреченной жертвы (говорю вам — он вот-вот самобичеванием займется).
— Даже наши светомаскировочные шторы, если честно, — поблажка со стороны Лукаса, потому что нигде больше нет штор, таково правило. Нам он сделал послабление, потому что снаружи их совсем не видно, понимаете? Окна просто темные, как и все остальные. Нам повезло, да.
Бочка кивнул:
— А я-то хотел розовые в клеточку и с оборочками занавесочки в будуаре — конец, значит, моим планам, да?
— Ха! Не обращайте на него внимания, — засмеялся Пол. — Он не виноват, что такой безнадежный невежда. Ты ведь невежда, а, Бочка? Ничего не поделаешь, ты ни черта не знаешь вообще ни о чем. Сказать тебе, чё я думаю, Майк, — я думаю, ты стоящую вещь тут учинил, парень. Блеск. А стенки эти — вы что, их поставили, потому что в те дни комнаты были маленькие, да?
— В точку. Лукас не потерпел бы никаких настоящих перестроек здесь, и я полностью его понимаю. Но таких особнячков тридцатых годов, какой мы стремились воссоздать — штук шесть напихать можно в то пространство, что он нам отвел. Большую часть мы вообще не используем, ужасное расточительство, я считаю, но что поделаешь. И вся обстановка, разумеется, — она вся масштабирована. Иначе совсем бы потерялась. Однако место — подлинное расположение, — напирал Майк, и сияние подлинного энтузиазма гордо мерцало в его широко открытых глазах, — расположение Печатни, конечно, превосходно, совершенно — абсолютно аутентично — потому что… Не знаю, заметили ли вы, но здания по бокам — справа и слева, ага? — современные, знаете ли. Совсем недавно построенные. Они, конечно, в стиле, это правда, — но воздвигли их в конце восьмидесятых. Я интересовался. — Тут его голос упал и скис. — Квартиры на заказ для тогдашних яппи. — Но едва сей неаппетитный кусочек, слава богу, был извлечен из окружающего варева богатства и красоты, Майк смог продолжать с удовольствием. — Я вообще-то к тому, что оригинальные склады вокруг нас — они две ночи подряд держались в самом разгаре немецкой бомбежки Лондона. Весна сорок первого, насколько я могу судить. Это здание, говорю вам, — оно все знает о войне, уж вы мне поверьте. Жило во время войны, понимаете? И выжило. Мы должны… уважать его, я бы так сказал.
Ну-ну, думал Бочка: да куда же это я задевал бич? Пожалуй, одолжу его нашему новому другу (говорю вам, этот наверняка кончит тем, что на кресте, нафиг, повиснет. И будет счастлив). И еще — вот уж не знаю, один господь ведает, за каким чертом Пол все трындит об этой ерунде. Я сперва думал, что он издевается, а он-то не прикалывается, теперь я вижу. Всерьез говорит, придурок. Ладно — вот вы мне скажите: что, блин, такого умного в том, чтобы убрать свет черными тряпками и жить в обувной коробке, набитой какой-то дрянью всех цветов на свете, от блевотины до дерьма? Нафига это все, а? Потому как если это искусство, засуньте его себе в задницу. И я сижу здесь, только чтоб разузнать об этой кретинской готовке, которую Пол на меня повесил. Не то чтобы я против малехо покопаться на кухне — если честно, мне нравится. И да — у меня ничё так себе получается, это правда. Но жрать за одним столом как одна большая счастливая семья — боже упаси. В смысле — все это немного похоже на… о черт: я чё, снова в школе? Ну ладно. По крайней мере, у нас есть крыша над головой: уже что-то. Потому что это правда, что Пол говорил тогда про Крошку Дэви, — он нам мешать начинал, Дэви этот. Я только надеюсь, что Пол не забудет, зачем мы здесь, вот и все: нам надо бы делом заняться, и поскорее. Бабла срубить. Да вы только посмотрите на него — охает да ахает, себя не помня… о чем это они там сейчас болтают? А, ну да, — о каких-то зубчатых каминных изразцах цвета грязи; да мы бы с вами кувалду бы к такой штуковине применили, едва, блин, завидев. Я словно в гребаные «Антикварные гастроли»[17] попал, или вроде того. А эта малышка Уна — посмотрите на нее. Сколько ей лет, интересно? Тридцать? Максимум тридцатник — еще относительно ничего: вы гляньте, какие клевые буфера. И какого черта она заперлась с ебаным проповедником в этой Комнате ужасов,[18] а? Не нравится мне это место — полным-полно психов. Ладно — пора это дело прекратить. Потому как они уже перешли к линолеуму, боже правый, и, похоже, мне не удастся вставить словечко и убраться отсюда живым. Я вам говорю, мужики, — я сейчас нафиг в кому впаду.
— Майк, — сказал Бочка и слегка закашлялся, чтобы тот заметил, — расскажи мне про кухню, ага? Я даже не знаю, куда идти-то.
Майк неохотно оторвался от восторженного рассказа Полу о безмерном блаженстве, что охватило его в тот прекрасный день, когда он обнаружил грязную, крошечную, всеми забытую подсобку в живописно-декорационной мастерской, расположенной в конце георгианской террасы рынка «Спитлфилдз» — ее собирались перестраивать, — и как он раскопал там катушки настоящих обойных бордюров шириной целых двенадцать дюймов трех оттенков имбирного цвета, которые вы сейчас вокруг и наблюдаете, — все выпущены задолго до того, как карточная система подобные вещи прикончила.
— Ах да, конечно — конечно, — сказал Майк. — Мне тут одна птичка напела, что я скоро избавлюсь от поварского колпака и фартука. Боже, как я тебе благодарен. Как и, — насмешливо продолжал он, самоуничижительно и с приличествующим случаю укором, — все наши соседи, в чем я ничуть не сомневаюсь. Мое картофельное пюре, если честно, крайне редко бывало на высоте. Не так ли, Уна?
— Ну да… — пробормотал Бочка. — Я же говорю — я не буду ничего особенного стряпать. Простая пища. Это мой стиль.
— Прекрасно, — восхитился Майк. — Просто прекрасно. А Лукас говорил тебе о…
— О требухе? Да, печенки не будет. Записал. Еще что-нибудь мне надо знать?
— Да нет. Вообще-то все проще простого. Знаешь что — давай, может, мы встретимся там, внизу, допустим в… Допустим, в шесть? Да, в шесть — в самый раз. Это в цокольном этаже. Стены толстые, как в Тауэре. Громадные контрфорсы, целая куча. Едим мы тоже там. При свечах, правда, Уна?
Уна вздохнула.
— Да, — подтвердила она. — Конечно, да.
— Это совершенно волшебно, — заключил Майк. — Такие старые сосновые длинные узкие обеденные столы — думаю, Пол, тебе понравится: середина викторианской эпохи, я бы сказал… разумеется, не мой период. И мы иногда вроде как сдвигаем их вместе, а потом Лукас всегда говорит нам пару слов, прежде чем мы, гм, — короче говоря, преломим хлеб.
— Что говорит? — перебил Бочка. — Типа, как он хочет купить всему миру «Коку»?[19]
— Ха! — фыркнула Уна, явно развеселившись.
— Мы, — довольно сухо отрезал Майк, — не совсем такие.
— Ладно, — произнес Бочка. — Приятно знать. В шесть, ага. Пол, ты идешь или как?
— Скоро — я тебя позже нагоню, хорошо? Только погляжу на эти графинчики. Бакелитовые,[20] да? Какая прелесть, — восторгался Пол. — К ним даже ложечки прилагаются.
Майк кивал, не скрывая восторга.
— Синие и зеленые крапинки особенно необычны, — говорил он. — Коричневые встречаются намного чаще. В Стоуке[21] была одна очень известная фабрика: эти, я совершенно уверен, родом оттуда.
Бочка почему-то разок покосился на Уну — та бессмысленно разглядывала то, что в нормальном доме представляло бы собой оштукатуренный потолок, но здесь было парящей, призрачной пустотой, мрачно украшенной вздымающимися грозовыми облаками выцветшей тонкой фланели. Затем Бочка повернулся, стукаясь локтями и коленями, протиснулся по лабиринту вонючих перегородок, ругаясь, словно безумец, проснувшийся от ночного кошмара, и нащупал дорогу обратно в двадцать первый век.
(Ага. И даже чаем не напоили).