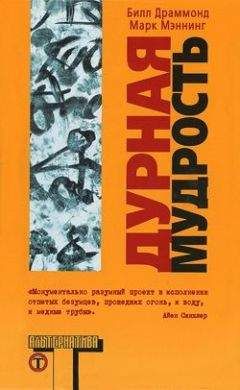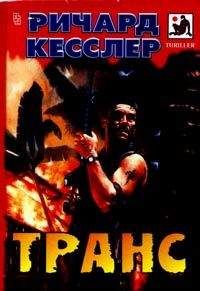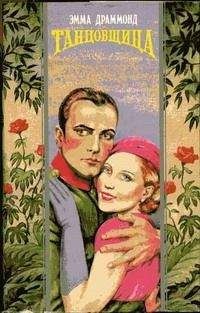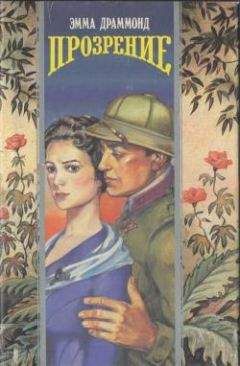С вами бывает такое: у вас есть свое мнение по какому-то поводу, какие-то твердые убеждения, которых вы держитесь, может быть, не один год, но стоит вам записать все эти соображения на бумажке, а потом вдумчиво прочитать, как вы вдруг понимаете, что все это – самодовольная и напыщенная ерунда, и что раньше вы декларировали этот бред исключительно для того, чтобы ощутить свое моральное превосходство над подругой, или над младшим братишкой, или над кем-то еще? Со мной – бывает. Вот прямо сейчас и было. Наверное, то обстоятельство, что я лежу у себя на полке и пишу эти записки в самом начале седьмого утра, в то время как Гимпо и Z упражняются в декадентском искусстве сна, и дало мне все основания предположить – сразу оговорюсь, что ошибочно, – что человечество просто загнется без моей наивысшей мудрости.
Поезд резко затормозил у перрона в Рованиеми. Кто-то из моих дрыхнущих спутников мощно пернул. Гимпо откашлялся и сплюнул на пол. Я накрыл одеялом мертвое тело – жертву вчерашней разнузданной жути, – и встал у раковины, чтобы совершить утреннее омовение.
По купе разливалась вонь канализации. Билл все еще спал, а Гимпо пытался выпутаться из простыни, разукрашенной в угрюмо экспрессионистской манере Джексона Поллока – размашистыми мазками физиологических выделений и черной крови. При этом он громко стонал. Обе губы у него разбиты, под глазом – фингал. Потом я услышал какое-то шевеление и истошный вопль. Это Билл спрыгнул со своей зловонной подстилки. Его бледный лик исказился от ужаса, и он бешено замахал рукой, стряхивая прилипшую к ней мелко нарубленную человеческую печенку. Он быстро прикрыл одеялом что-то у себя на полке и пулей вылетел из купе. Я издал утренний громоподобный пердунчик и бросился следом за ним.
Я уже пожалел, что разорвал те страницы. Все– таки там попадались и дельные мысли; например, про мое убеждение, что хотя наши тела и стареют, изнашиваются и распадаются на кусочки, в сердце каждого человека есть некий юный цветок, который растет и цветет до последнего мига – до самой смерти. Ладно, сделаем перерыв. Закрываю блокнот и смотрю в окно: сосны в шубах из снега и млечное небо. Грусть потихонечку отступает. Мир – вот он, на месте, и я себя чувствую очень даже неплохо. Попробую все-таки восстановить тот кусок.
На последней странице из тех, что я вырвал и разорвал, я сравнивал жизнь с подъемом на гору. Я писал, что как раз в прошлом году я добрался до очередного, казалось бы, непреступного перевала, откуда уже видно вершину. Да, подъем сделался круче, теперь на тропе попадаются шаткие камни и ледяные участки, но я вижу вершину – то есть я очень надеюсь, что это вершина, – и знаю, что должен подняться туда. Пройти по этой тропе до конца. Я вдруг понимаю, что наша поездка на Северный полюс с иконой Элвиса, она ничего не изменит; что мы с Z и Гимпо просто пытаемся убежать от повседневной убогой рутины, просто хотим посмеяться – за счет тех, кого любим. Я уверен, что даже те, настоящие, исторические волхвы тоже пытались сбежать от чего-то, что доставало их в жизни, и у них тоже были свои разногласия и свои сложности на пути в Вифлеем. Да, они тоже нюхали вонь своего пердежа. Но все равно я надеюсь, что мы потихонечку приближаемся к этой манящей вершине. Да, может быть, я никогда до нее не дойду, но я хотя бы пытаюсь дойти.
В дверь стучат. Проводник. Мы прибываем в Рованиеми через пятнадцать минут. Надо вставать – собираться. Прочь, тяга к самокопанию! Прочь, сомнения к себе! Поезд уже тормозит. Все, приехали. Выбираемся из купе. Кстати, уже перед самым выходом мы с Z завели разговор о членах. В частности, мы говорили о том, что было бы классно разжиться таким теплым нижнем бельем типа цельного комбинезона, которые носят ковбои в фильмах – когда пьют кофе, поднявшись с постели, или когда раздеваются в будуаре в борделе, где их, как правило, и пристреливают. Ну, ковбоев.
Мы сошли с поезда прямо в сугробы. Ощущение было сродни религиозному экстазу: я как будто очистился и возродился в холодном снегу. Сухой воздух с легким привкусом металла оседал в легких узорной изморозью. Свет падал под углом в семьдесят градусов, и на землю ложились длинные золотистые тени; небо одело нас розовым и желтовато-оранжевым; ветра не было вообще.
Ну да, разумеется. Мы были последними, кто вышел из поезда. Бля, эта последняя фраза вызвала мощный прилив эмоций, и у меня в голове зазвучал голос Тома Джонса: «Зеленая травка у дома». Это одна из тех песен, которая вспоминается мне часто– часто, и я полностью отождествляю себя с ее главным героем: я тоже сижу в камере смертников, и готовлюсь к великому неизвестному, и вспоминаю счастливое детство, которое у меня было – или, может быть, не было, – уже так давно. В Рованиеми нету зеленой травки. Но зато есть ощущение, что мы покидаем привычный, знакомый мир и вступаем в великое неизвестное.
Пока мы продирались сквозь хрусткий снег, я думал о пытках и гестаповцах в длинных плащах из черной кожи. В общем, к билетной кассе я подошел с мощной эрекцией.
Обратно – в здесь и сейчас. Конечная станция. Север встречает нас скудным солнечным светом и снежинками в неподвижном холодном воздухе. Да, на улице жуткий холод. Но холод радушный, незлой.
Мы проходим по свежему снегу к зданию вокзала, низенькому строению из серого бетона, и стоим там в тепле – соображаем, что делать дальше… Гимпо ноет, что у него вся башка в синяках и шишках, после вчерашних подвигов с дзенской палкой. Он заказал нам машину в прокате через своего лондонского турагента. Мы находим нужный нам адрес на карте города, что висит на стене у билетных касс, и выходим из здания вокзала в город, засыпанный снегом. Переходим пустое шоссе, проходим мимо доисторического паровоза, выставленного на всеобщее обозрение в качестве культурно-исторической реликвии. Где-то через полмили набредаем на придорожную закусочную для дальнобойщиков, где мы сейчас и сидим, грея замерзшие руки о чашки с чаем и горестно возмущаясь, что здесь у них не подают горячие завтраки.
На перроне нас уже дожидалась группа лапландских школьниц в национальных костюмах: в дурацких шляпах, похожих на люстру с четырьмя рожками, в унтах, подбитых оленьим мехом, ну, и все прочее. Как положено. У них были с собой сигареты, и водка в бутылках с хорошо различимым пятиугольником на этикетке, и огромный плакат с надписью: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДЗЕН-МАСТЕРА.
Очень красивая и очень взволнованная старшеклассница бросилась нам навстречу. Медный запах ее менструальной крови разлился в морозном воздухе, как аромат пряных восточных сладостей. Она перевела дух и сообщила нам – голосом, точно подтаявшее суфле, – что они пришли на вокзал, все эти девочки, специально, чтобы нас встретить. Слухи о нашей тайной и благородной филантропической миссии каким-то образом опередили нас. Внезапный порыв ледяного ветра донес до нас странную музыку: что-то похожее на перуанские металлические барабаны и колокольчики из сосулек. Билл нервно пукнул.
Снова – на улицу. Бледный свет солнца раскрасил небо мягкой, размытой пастелью. Красивые школьницы в ярких лыжных костюмах откровенно смеются над нами, когда мы проходим мимо; на их светлых ресницах подрагивают снежинки, а голубые, как у фарфоровых кукол, глаза блестят лживой невинностью. Они быстро докуривают запрещенные сигареты и убегают за угол, на школьный двор.
Нас отвели в зал приемов, где были еще и другие красивые школьницы, которые встретили нас робкими рукопожатиями и большими стаканами водки. Той самой: с пятиугольником на этикетке. Никто из них не разумел по-английски. Только та девочка с менструацией и голосом, как суфле.
Мы нашли нужный нам дом – по тому адресу, что был у Гимпо, – но там вроде бы никакой не прокат автомобилей, а, скорей, магазин аксессуаров для штор. Плюс к тому он был закрыт. Но рядом была открытая дамская парикмахерская. Собравшись с духом, вхожу туда, сжимая в руке квитанцию на заказанную машину. Парикмахерши не говорят по-английски, а вы, наверное, уже догадались, что мы с Z и Гимпо, будучи истинными британцами, никаких языков, кроме родного, не знаем. Тычу квитанцию им под нос. Они указывают на адрес в квитанции, потом – на соседнюю дверь, где карнизы и шторы, и кивают.
Ага. Там, похоже, открылось. Во всяком случае, какой-то парнишка среднего школьного возраста отпирает дверь и при этом дымит сигаретой. Он входит внутрь, и мы входим следом за ним. Как выясняется, мальчик тоже не говорит на международном языке рок-н-ролла. Меня посещает эгоистичная мысль: какой смысл жить в постмодернистском мире, если никто не говорит по-английски? Да, это прокат автомобилей. Парень берет телефонную трубку и кому-то звонит. Тыча пальцем в часы на стене, объясняет нам на языке жестов, что нашу машину пригонят через полчаса.
Сейчас только десять утра. Вернее, самое начало одиннадцатого. Мы сидим в совершенно пустом ресторанчике через два дома от штор и карнизов. Три минуты назад здесь закончили подавать завтраки. Такой тут порядок. И никто не жалеет пойти навстречу трем озверевшим от голода странникам в нашем лице и приготовить нам яичницу с беконом, грибами, кровяной колбасой, копченостями и фасолью. В общем, мы в полном расстройстве. Нам предлагают выбрать чего-нибудь из «тематического» меню дня. Знать бы еще, что за «тема» такая, ресторан расположен на первом этаже четырехэтажного здания из серого бетона. Традиционная северно-европейская послевоенная архитектура. Внутри все отделано сосновыми бревнами. На стенах – лосиные головы, чучела енотов, сигнальные фонари. Шторы на окнах – в красно-белую клетку. На самом почетном месте, над искусственным камином – кошмарный портрет самого Дьюка, Джона Уэйна. Кошмарный – в смысле художественного исполнения. Что все это значит, мы вообще без понятия. У нас ощущение, что нас обманули: мы проделали такой путь – из декадентской, упадочной, распадающейся на части космополитичной столицы нашей великой убогой родины почти до границы Полярного круга, – и нам, наивным придуркам, хочется получить хоть немного реальности. Истинной, неподдельной жизни. А что нам предлагают? Ресторан, где все устроено по образу и подобию ущербного голливудского представления о том, каким должен быть ресторан на бескрайних снежных просторах Северо-Западного Фронтира.