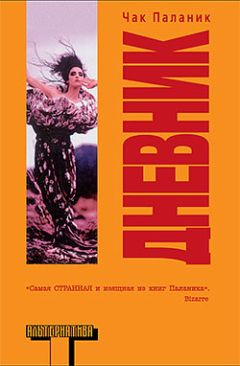Мисти говорит:
– Какого хрена ты твердишь моей дочке, будто я стану знаменитой художницей?
Она оглядывается по сторонам, видит, что рядом попрежнему никого, и она говорит:
– Я официантка, и благодаря мне у нас есть крыша над головой, и этого вполне довольно. Я не желаю, чтоб ты наполняла моего ребенка ожиданиями, которые я не в силах оправдать.
Сдерживая дыхание до боли в груди, Мисти говорит:
– Ты понимаешь хоть, как я буду выглядеть из-за всех твоих бредней?
И гладкая, широкая улыбка растекается по губам Грейс, и она говорит:
– Но Мисти, это правда: ты станешь знаменитой.
Улыбка Грейс – раздернутый театральный занавес. Ночь открытия сезона. Это Грейс, разоблачающая себя.
И Мисти говорит:
– Не стану.
Она говорит:
– Не смогу.
Она всего лишь обычный человек, что будет жить и умрет, забытый всеми, незаметно. Обыденно. Не такая уж и трагедия.
Грейс закрывает глаза. По-прежнему улыбаясь, она говорит:
– О, ты станешь такой знаменитой, когда…
И Мисти говорит:
– Стоп. Точка, абзац.
Мисти срезает ее словами:
– Тебе так легко вскармливать надежды других людей. Неужто не видишь, как сама их и губишь?
Мисти говорит:
– Я чертовски хорошая официантка. Если ты случайно не заметила, мы больше не принадлежим к правящему классу. Мы не пуп мира.
Питер, вот в чем проблема твоей матери: она никогда не жила в трейлере. Никогда не стояла в очереди в бакалейную лавку с талоном на льготную покупку продуктов. Она не знает, как жить в бедности, и не рвется учиться.
Мисти говорит: они б могли придумать что похуже, чем воспитать Табиту так, чтобы она вписалась в эту экономику, была способна найти работу в мире, который унаследует. Нет ничего дурного в том, чтоб обслуживать столики. Вылизывать номера.
А Грейс аккуратно кладет кружевную ленточку меж страниц дневника, чтоб отметить то место, где пришлось прерваться. Она поднимает голову и говорит:
– Тогда почему ты пьешь?
– Потому что люблю вино, – говорит Мисти.
Грейс говорит:
– Ты пьешь и шляешься с мужиками, потому что боишься.
Под «мужиками» она, должно быть, имеет в виду Энджела Делапорте. Человека в кожаных штанах, что снимает Уилмот-хаус. Энджела Делапорте с его графологией и фляжкой доброго джина.
А Грейс говорит:
– Я точно знаю, что ты чувствуешь.
Она складывает руки на дневнике у нее на коленях и говорит:
– Ты пьешь потому, что хочешь выразить себя и боишься.
– Нет, – говорит Мисти. Она отворачивает голову к плечу и искоса смотрит на Грейс. И Мисти говорит: – Нет, ты не знаешь, что я чувствую.
Огонь рядом с ними щелкает и посылает спираль из искр вверх, в дымовую трубу. Запах дыма выплывает наружу и распространяется от камина. От их праздничного костра.
– Вчера, – говорит Грейс, – ты начала копить деньги, чтоб уехать обратно в твой родной городишко. Ты их держишь в конверте, а конверт подсовываешь под краешек коврика, рядом с окошком в твоей комнатенке.
Грейс поднимает глаза, ее брови задраны, коругатор гофрирует пятнистую кожу лба.
И Мисти говорит:
– Ты за мной шпионила?
И Грейс улыбается. Она легонько стучит увеличительным стеклом по открытой странице и говорит:
– Это в твоем дневнике.
Мисти говорит ей:
– Это твой дневник.
Она говорит:
– Невозможно вести чужой дневник.
Просто чтобы ты знал: за Мисти шпионит ведьма и все-все записывает в зловещем красном кожаном блокноте.
А Грейс улыбается. Она говорит:
– Я его не веду. Я читаю его.
Она переворачивает страницу, смотрит на нее сквозь свою лупу и говорит:
– О, завтра, похоже, будет весело. Тут сказано, что ты вероятнее всего повстречаешься с милым полицейским.
Для протокола: завтра же Мисти сменит замок на своей двери. Pronto.[27] Мисти говорит:
– Стоп. Еще раз: стоп, точка, абзац.
Мисти говорит:
– Наша главная проблема сейчас – Табби, и чем скорее она научится жить обычной жизнью, в которой у нее будет нормальная, будничная работа и крепкое, надежное, обыкновенное будущее, тем счастливее она будет.
– Секретаршей в офис? – говорит Грейс. – Чужих собак мыть? За чек на зарплату раз в неделю? Так, выходит, ты из-за этого пьешь?
Твоя мать.
Для протокола: она имеет право услышать ответ.
Ты имеешь право услышать ответ.
И Мисти говорит:
– Нет, Грейс.
Она говорит:
– Я пью потому, что вышла за глупого, ленивого, нереалистичного мечтателя, который был воспитан с верой в то, будто в один прекрасный день он женится на знаменитой художнице, и оказался не способен пережить крушения надежд.
Мисти говорит:
– Ты, Грейс, ты проебала своего собственного ребенка, и я не дам тебе проебать моего.
Наклонясь так близко, что становятся видны белая пудра в морщинах Грейс, в ее ритидах, и красные паучьи линии – там, где помада Грейс кровоточит в морщины, окружающие рот, – Мисти говорит:
– Прекрати ей врать, поняла? Иначе, клянусь, я завтра же соберу свои сумки и увезу Табби с этого чертова острова.
А Грейс смотрит мимо Мисти, глядя на что-то или кого-то у той за спиной.
Не глядя на Мисти, Грейс просто вздыхает. Она говорит:
– Ох, Мисти. Слишком поздно ты спохватилась.
Мисти оборачивается и видит Полетту, портье, – та стоит себе в своей белой блузке и темной плиссированной юбочке и говорит:
– Прошу прощения, миссис Уилмот?
Одновременно – и Грейс, и Мисти – они говорят, «да?».
И Полетта говорит:
– Я не хочу мешать вашей беседе.
Она говорит:
– Мне просто нужно положить еще полено в огонь.
И Грейс захлопывает книгу, лежащую у нее на коленях, и говорит:
– Полетта, ты нам нужна, чтоб разрешить наш маленький спор.
Двинув лобным мускулом так, чтоб поднять лишь одну бровь, Грейс говорит:
– Разве ты не хочешь, чтобы Мисти поскорее написала свой шедевр?
Погода сегодня отчасти сердита и предвещает покорность и ультиматумы.
И Мисти поворачивается, чтобы уйти. Сделав шаг, останавливается.
Волны снаружи шипят и разбиваются.
– Спасибо, Полетта, – говорит Мисти, – но пришло время всем на острове просто смириться с тем фактом, что я собираюсь откинуть копыта ничтожной толстухой.
На случай, если сейчас ты способен на любопытство: твой приятель из художественного колледжа, с длинными белокурыми локонами, тот самый парень, который порвал свою мочку надвое, стараясь дать Мисти свою сережку, – он теперь лысый. Его зовут Уилл Таппер, и он правит паромом. Лет ему как тебе, а мочка его все так же свисает двумя клочками. Рубцовая ткань.
Этим вечером, плывя на пароме обратно на остров, Мисти стоит на палубе. Холодный ветер старит Мистино лицо, растягивает, сушит ее кожу. Плоскую мертвую кожу ее рогового слоя. Она невинно попивает пиво из бутылки в коричневом бумажном пакете, когда вдруг здоровенный пес тычется в нее носом и отпрыгивает в сторону. Принюхивается и подвывает. Хвост его поджат, а кадык ходит вверх-вниз внутри шеи, как будто пес что-то глотает, снова и снова.
Она делает к нему шаг, чтоб погладить, но пес пятится от нее и вдруг мочится прямо на палубу. К ним подходит какой-то мужчина, держа в руке свернутый петлей поводок, и спрашивает ее:
– С вами все в порядке?
А перед ним – просто бедная толстуха Мисти в ее персональной пивной коме.
Ага, щас. Как будто она собирается стоять тут в луже собачьей ссаки и рассказывать этому странному незнакомцу всю историю своей злоебучей жизни – прямо тут, на пароме, с пивом в руке и шмыгая носом, глотая слезы. Как будто Мисти может просто взять и сказать: что ж, раз уж вы спрашиваете, я всего лишь потратила уже какой день по счету в чьей-то там замурованной прачечной комнате, читая тарабарщину на стенах, покуда Энджел Делапорте щелкал вспышкой, делал снимки и все приговаривал – мол, ваш мерзавец муж на самом-то деле очень любящий мужчина, защитник, потому что пишет свои буквы «щ» с крючочком, торчащим кверху мелкой завитушкой, несмотря на то, что это буквы «щ» в словах, зовущих вас «…отмщение несущим проклятие зловещей смерти…».
Энджел и Мисти, они весь день протерлись жопами – Мисти выводила пальцами слова, наспреенные вдоль по стенам и гласящие:
– …мы принимаем грязный водопад ваших деньжищ…
И Энджел спрашивал ее:
– Вы что-нибудь чувствуете?
Домовладельцы паковали в специальные чехлы свои семейные зубные щетки для анализа в лаборатории, чтоб выявить микробов, гнилостный процесс. И возбудить процесс судебный.
На борту парома незнакомец, оказавшийся хозяином пса, спрашивает Мисти:
– На вас надето что-то, принадлежавшее покойнику?
Ее пальто – вот что на ней надето, ее пальто и туфли, но на лацкане красуется одна из тех позорящих глаз Божий здоровенных, стразами усеянных булавок, которые дарил ей Питер.