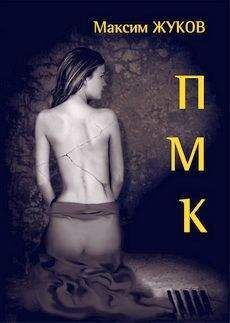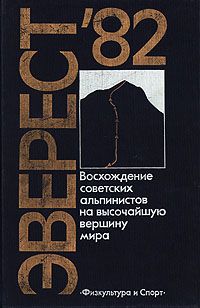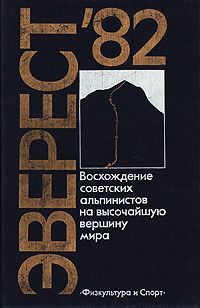* * *
На улице алкаш одет не по погоде.
Уже к семи часам становится темно.
Сказать ли о себе? Сказать ли о народе?
Не все ли нам равно.
В наручниках тоски, в машине милицейской,
Непойманный-не вор закурит натощак.
Спаситель говорил… и выговор еврейский
Картавое руно над ранами вращал.
И все-таки шкала задуманного кода,
Как некий люминал, растаяла в крови.
Я позабыл теперь названье эпизода,
Где некогда сыграл подобие любви.
Давно плюет в стакан другое поколенье,
Которое поймут, дай бог, через века,
Да будет славно дум высокое стремленье!
И рифмы к ЖКХ.
И, выставлен на стрем в осеннем камуфляже,
На улице дрожит незавершенный стих.
Что мне твои шаги и топот третьей стражи,
Когда мой третий рим до первой стражи стих.
Живя на первом этаже,
Вот-вот опустишься в подвалы:
Ведь на сортирах есть уже
«М/Ж» — мои инициалы.
В глазах чернильная мазня —
Вином забрызганные строчки.
Пришла весна, и у меня,
Как на ветвях, набухли почки.
Я это все пишу тебе
Под утро, медленно трезвея.
Пигмалион и Галатея —
Мы не подходим по резьбе.
И в Ж отосланный тебе я,
Как М, ответствую на Б.
Сандуны,
Где над стойкой завис
Гомосексуалист.
Нет вины, что раздет,
Нет вины, что забыт.
Неустойчивый свет,
Незатейливый быт.
Нет луны
в запотевшем окне.
Ни в уме, ни во сне,
Ни в чужой простыне
Не дойти до стены,
Что напротив тебя,
И шаги неверны,
И уходишь в себя.
По уму —
Мы с тобою, дружок,
Никому
Не нужны,
Так клади пирожок
На свои же штаны.
Да простят нам должок
Все, кому мы должны.
В переулке снежок.
Разливая портвейн,
Не найти нам, дружок,
Злополучный бассейн
И парилку, где срам
Можно спрятать в тени…
Все. Пока. По домам.
Деньги будут — звони.
Как не люблю твою пору —
Пора не та и все не в пору,
И день и ночь не ко двору,
Да и дела мои не в гору.
Мент, покидающий контору,
Глядит на пеструю игру
Объяв, прилепленных к забору
Его конторы, на ветру.
Призвав, как Герцен к топору,
Пожару, голоду и мору,
Воздал отечеству позору
Телеведущий поутру.
И я, прибегнувший к перу,
Скуривший пачку «Беломору»,
Для рифмы пролиставший Тору,
Как Моисей
народу — вру.
Прости… Опять воспоминанье.
Твой потолок, как паланкин,
Плывет туда, где, снова стань я
Собой, — я стал бы не таким.
Вновь оснеженные колонны,
Елагин мост, — но нет меня,
И покрывает простыня
Тебя, как голову Горгоны.
Холодный ветер от лагуны,
И на прощание — в конце —
Морщин серебряные струны
На запрокинутом лице.
Такая бедность не порок,
И в том тебе моя порука:
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Как воровство строки и звука.
…В лучах рассыпавшихся призм
Век завершается капризно…
Прости мне мой постмодернизм,
Как разновидность… реализма.
Я не ломаю стену лбом,
Люблю грозу в начале мая,
Когда она из-за сарая,
Как бы резвяся и играя…
А после в небе голубом.
Читаю Дарвина с трудом
И, опуская долу взоры,
Веду разумны разговоры,
Навстречу северной Авроры
Никем пока что не ведом.
И ничего, что без души
Смотрю на то, гляжу на это.
Моя жена — жена поэта?
Вопрос не требует ответа.
В своем альбоме запиши,
Что размышленье — скуки семя,
Всему свое приходит время,
Пришла война — так ногу в стремя,
А не пришла — так не спеши.
Немного красного вина,
Немного солнечного мая,
Люблю грозу, не понимая,
В чем заключается она.
2
Давай пороемся в былом:
Там улыбаются мещанки,
Там не хватает на полбанки,
И всё не так, и все не то.
Там дамы, посланные на,
К себе не чувствуют участья,
Там на обломках самовластья
Не те, что надо, имена.
Но, как предмет сечет предмет,
Там все великое — велико.
Ночь. Улица. Фонарь. Калитка.
И в небе ультрафиолет.
Там, с похмела себя не чуя,
На дровнях обновляют путь,
И если бьют кого-нибудь,
То как крестьянин, торжествуя.
Там солнце светит под углом
С утра и к вечеру, и я там
Рассвет не сравнивал с закатом
И что-то, видно, пропустил.
В России всегда можно было
стрельнуть сигарету
Нина Искренко
1
Качаясь, как чаша в руках у жены, что сидела на звере багряном,
Ты выйдешь впотьмах на родную Миклухо-Маклая,
Где снег, оседая с балконов в кружении странном,
Опустится наземь, библейскую ночь освещая(зачеркнуто)
освящая.
О звере багряном пошла было речь, но твой мозг перетянут капроном
Московского с понтом житья и докуки житейской.
И тронулось все, и пошло, вкривь и вкось, Вавилоном,
В котором живем под опекой твоей милицейской.
Выходит, все так и выходит, как вышло. Не надо
Меняться в лице, призывая виновных к ответу.
Для тех, кто приехал с «фирмы», есть пока что отрада —
Стрельнуть на вокзале у заспанных шлюх сигарету.
2
Когда ты считаешь баранов, к которым недавно вернулся,
Как тот Полифем за Улиссом в родную пещеру,
То движется счет на паденье валютного курса,
На коем теперь не построишь лихую карьеру.
Но все же духовный полет — буду бля! — независим
От цен на себя, когда срезана в штопоре лопасть,
Когда, не стремясь к супергипотетическим высям,
На свет — не без мук — появляется маленький опус.
Чужую веру проповедую: у трех вокзалов на ветру
Стою со шлюхами беседую, за жизнь гнилые терки тру.
Повсюду слякоть безнадёжная, в лучах заката витражи;
Тоска железная, дорожная; менты, носильщики, бомжи.
И воробьи вокзальной мафией, с отвагой праведной в груди
Ларьки штурмуют с порнографией, на VHS и DVD.
Негоциант в кафе с бандосами лэптоп засовывает в кейс;
Не подходите к ним с вопросами — поберегите честь и фэйс.
И нагадав судьбу чудесную, попав и в тему и в струю,
Цыганка крутится одесную. — Спляши, цыганка, жизнь мою!
И долго длится пляс пугающий на фоне меркнущих небес;
Три ярких глаза набегающих, платформа длинная, навес…
Где проводниц духи игривые заволокли туманом зал,
Таджики, люди молчаливые, метут вокзальный Тадж-Махал;
Им по ночам не снятся гурии, как мне сказал один «хайям»:
— Пошли вы на хер все, в натуре, и — пошел бы на хер я бы сам.
Над Ленинградским туча движется и над Казанским в разнобой
По облакам на небе пишется моя история с тобой;
Она такая затрапезная, хотя сияет с высоты;
Тоска дорожная, железная; бомжи, носильщики, менты.
Выплюнь окурок в сугроб,
оглянись и увидишь ты —
Вот она, воооот!
За спиной у нее сутенер.