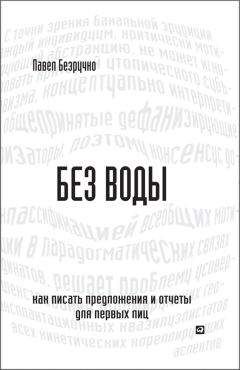Сейчас эта женщина кажется омерзительной и страшной — все эти дремучие заросли в промежности, эти темно-коричневые, бахромчатые, покрытые волосами снаружи и сине-розовые внутри, жадно приоткрытые половые губы.
Лихорадит. Мутный и дрожащий окружающий мир. Озноб.
«Ты позвонишь?! Будешь извиняться или ждать, пока я от тебя камня на камне не оставлю?» Я не хочу видеть тебя такой! Нет, не хочу!
Опять белые носочки. Тоже ведь — эпопея! Представьте себе, практически она их не снимает никогда.
Как в гробу.
И когда трахается — тоже.
Направленные в зенит и разведенные, мощные, увенчанные носочками торчат ее ноги, а между ними, у основания этой пирамиды, где тепло, копошусь я, добывая трением оргазм.
А дело в том, что у нее ноги постоянно мерзнут. Не женщина, а передвижной госпиталь.
В тему…
Холодно на улице.
Как в ту новогоднюю ночь…
Я провожал Ванечкину девушку домой, на Исполкомскую. Почти дошли до дома — какой-то темный переулок, упирающиийся в ее парадную.
Из подворотни двое длинных, внезапно. И сразу нож у живота.
«Шубу, пальто и деньги — по-быстрому!»
Холод в животе. Тоска. Время потекло медленно-медленно, в нереальности.
Лица плохо видны.
Снимаю с себя шарф — целую вечность. Передаю тому, у которого нож. Он отводит руку с ножом от живота и двумя руками подхватывает шарф.
Неловко ударяю его в лицо, выталкиваю девушку на мостовую и кричу: «Беги!»
Мгновенно. Второй стоит, как мумия.
Время стремительно полетело. Перебегаю на ту сторону переулка, где у ремонтирующегося дома грудой лежат кирпичи. Поднимаю один. Возвращаюсь.
(Зачем? Стыдно за мгновение страха?)
Они ждут меня.
Выбросил кирпич — неудобно. Снова ударил того, что с ножом. Опять не очень удачно. С их стороны никакой активности. Получил по морде и стоит.
Присмотрелся — оба бухие.
Из парадной, где живет Ванечкина девушка, вывалилось несколько мужиков в рубашках и галстуках — это в мороз-то.
Торопливо направляются к нам.
Двое повернулись и неспеша пошли по переулку…
Никто их не догонял.
— И представьте себе, вот я на ней женился (а ведь был готов) — через неделю эти замечательные внешние данные, кишлаковое миропонимание и истерические горные выкрики доведут меня до катарсиса.
А как будет раздражать то, что сейчас радует? Это отдельная тема. Большая. Потребуется эссе. Там я напишу про подружек — важный нюанс.
Особенно одна — тронутая на сексе «мечтательница».
Каждый раз у нее «мужчина моей мечты».
Сейчас некто богемный с велосипедом и «жуткой» эрекцией.
Когда я ощупываю ему брюки, он у него такой большой и крепкий… Белесые ресницы и удивленно-простодушный взгляд серых глаз — естественно бесстыдна. «Но он почему-то со мной не спит, не хочет — говорит, что жена».
(Видимо, у них с Юлей одна проблема.)
«Ты как-нибудь все-таки воткни его в себя, а то он велосипедную раму хуем переломит, и возникнет уличный инцидент. Даже ДТП».
Или она обкуренная всегда, или экзальтированная, не понять.
У супермаркета нищего по-прежнему нет. Плохой признак.
«Господи, пусть она оставит меня в покое! И где она?! Где? Может, больна?»
Как у собаки, которая не знает, где находится ее хозяин, у меня появлялось беспокойство.
«Это не она больна, это я».
Не звонит. Хорошо, позвоню я.
Позвонил. Вежливо попросил десять минут для разговора. Последовало приглашение. Пришел.
Она стояла у открытого окна с сигаретой. Слушала. Ей не нравилось. (Да и кому понравится?)
Не более.
— А я хочу, как все, — лежать и читать, ходить в парикмахерскую, на массаж и в магазин. И нигде не работать. Разве это плохо?
— Это не плохо. Только за чей счет? Чем будешь расплачиваться — венболезнями?
— Не понимаю только, как боги, создавая твою плоть, забыли про твой дух? Видимо, надеялись на тебя.
Так что какая-то надежда у тебя есть, пока.
Не удостоила ответом.
Тогда вот что тебя ждет, примерно: сувенирная лавочка. Торгуешь, счастливая от непонимания. И раз в неделю секс — после подсчета выручки.
Или, возможно, через много лет. Дома под электрической настольной лампой. Одинокая. Больная. Брошенная всеми. С хроническим воспалением глаз и книгой в руках. Седая. Закутанная в теплую шаль. В носках.
Ты не любила, и тебя не будут любить.
Ученик, вечная сигарета во рту. Язвительная. Репетитор.
Все-таки достойней, чем в лавке.
Так будет, если ты не разозлила судьбу. Я ведь тебя долго не видел. Может, уже поздно.
И поплывешь ты по своему Обводному каналу, совокупляясь с отбросами.
Он вынесет вас в залив, к отстойникам.
Там ты и останешься: с посещением вендиспансеров, гинекологических клиник, в обманчивом сумеречном свете существования в этом заросшем и смрадном болоте, которое и будет твоя жизнь.
Тебя будут щупать за вялые груди, прижиматься, механически лихорадочно флагеллировать, чтобы получить в итоге жалкий и слабый абортивный оргазм.
А очищенная, прозрачная вода потечет дальше в океан, где плавают крупные, здоровые и быстрые рыбы.
Как люди молодые и сильные, ощущающие долг перед предками, которого лишена ты.
И когда в коротких пароксизмах понимания ты шепчешь: «Какая я помойка!» — это вселяет надежду.
Она мне звонила целый день, но я вернулся только поздно вечером. Был занят.
Звонок: «Я тебя просила все это говорить? (Без „здрасьте“.) Мне плохо, я не могу!» — упавшим, отчаянным голосом, горестно всхлипывая.
— Я сейчас приеду.
Открывает в халатике, в пресловутых носочках — вся зареванная. Волосенки на голове непричесаны, редкие; глаза красные, настроение, видать, я ей испортил.
— Зачем ты мне все это наговорил, теперь не знаю, как мне жить?
Вот тебе на! Кто бы мог подумать? Переживает.
Расстроился сам. Честно говоря, не ожидал. Говорю что-то, глажу по голове, обнимаю, вытираю слезы, чувствую ее тело, его мягкую податливость.
Не люблю я мириться в постели — как-то пошло, но жалость, жалость и желание ее прикосновения…
Когда я стал ее раздевать, она вдруг выключила ночник: «Я стесняюсь».
Неужели это она произнесла?! После всего этого дикого опыта?! Она стесняется! Как это замечательно. В их жизни «я стесняюсь» — раритет.
И вдруг я снова провалился в некий звездный, искрящийся мир, где в глубине ощутил запредельное, неземное чувство ее плоти, дышащей страстью пророков, горячих неизвестных звезд. Я снова исчез на мгновение — мгновение, которое стало моим отдельным существованием.
Я взглянул на нее — на лице ничего.
Да, у нее долгий путь. Буду ждать.
«Господи, — думал я, — ты дал женщине это уникальное генетическое богатство, этот тканевой беспредел — так дай же ей разум это осознать! Ведь ты такое не даешь навечно. Как поделиться, как объяснить?»
Я стал осторожен и нежен. Такой брезгливый от природы — я вылизывал ее оскверненное болезнью и грубостью лоно, ее клитор. Я слышал благодарные, нежные стоны. Что тянуло меня в эти вылеченные, но скомпрометированные болезнью места — любовь, жалость, страсть? Не знаю. Не понимаю. (Может, сублимация некрофилии?)
Иногда в глубинах ее естества ощущалось дыхание вечности, близкое, наверное, к смерти. Что это было? Не знаю.
Она снова рядом, и этот волшебный покой и безмятежность снова вернулись ко мне. К тому же она была уже другая — мягкая, лучшая, деликатная и ласковая, неожиданно уступчивая. И в близости она стала совсем иной — исчезли эти убогие заученные приемы, появилась некая застенчивая скованность, нежность, какое-то внутреннее самоограничение. Губы стали добрыми, не получающими, а отдающими, как и ее внимательные движения. Был в нашей близости какой-то незнакомый посторонний привкус, и тело мое тогда говорило — «доверять нельзя».
Время от времени в меня вливалось и наполняло до краев потрясающее ощущение ее, до последней клеточки, и я проваливался туда, где есть настоящая она. Эти ночи стоили жизни, унижений, стыда — всего…
Она сидела на краю дивана голенькая, поджав и охватив руками ноги и положив голову на колени, нежная и хорошенькая, как маленький осьминожек, сидящий на камешке на дне Совгаванской бухты.
Я лежал на небольшой скале недалеко от берега, греясь на солнышке, и смотрел в воду.
Зеленая, прозрачная, холодная вода просматривалась глубоко до дна.
Толпа маленьких крабов, относимых прибоем, снова поспешно стремилась к скале, заросшей снизу водорослями. Они забирались выше воды, чтобы затем, пятясь боком, свалиться обратно в море.
Длинные зеленые и багровые водоросли поднимались ото дна к поверхности.
Вдруг стремглав вылетала какая-то рыбка и, дрогнув хвостом, исчезала…