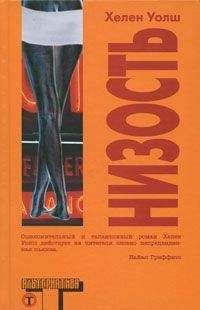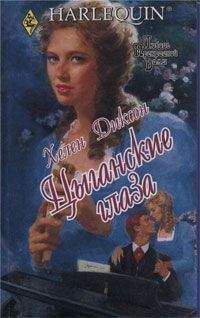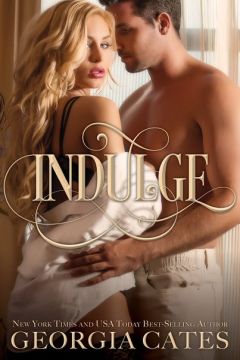Пробегаю через лоскут лужайки, отделяющей Литературу от Социологии, и садовник с запуганным лицом и свисающей изо рта сигаретой орет мне, что надо ходить по дорожке. Я показываю ему язык и ныряю в толпу студентов, движущихся в том же направлении. В нескольких из них узнаю папиных второкурсников — специалистов по марксизму и социологии. Я горячо ненавижу этот типаж. Их можно встретить, когда они маршируют по городу в субботу днем, прикапываются к невинным продавцам и вещают о зле глобализации и эксплуатации наемных рабочих в странах третьего мира. Не к тому, что я не согласна с тем, что они говорят, просто это чистого вида позерство. Прекрасно знаешь, что лет через десять большинство из них будет катать своих деток-акселератов в спейс-мобилях «Рено», и все они будут дружно чавкать «хэппи-милом» из «Макдоналдса». И будут закатывать званые обеды для приятелей, из которых каждый кончил тем, что продался за большой пиздец в глобальные корпорации. И тот простой факт, что многие из них забывают свои убеждения сразу по окончании универа, не умаляет того, что сегодня они очень настоящие. Все — часть процесса социализации. Козлы.
Ебаные показушники, и все тут.
Папа сидит у себя в кабинете, весь из себя любезный и сногсшибательный. Он одет в рубашку от DKNY цвета пейсли[7], что я ему подарила на прошлое Рождество. Две верхние пуговицы расстегнуты. Мой взгляд останавливается на молочно-белой впадине его ключицы, и я чувствую неясный приступ боли в паху. Покахонтас, кто станет винить ее?
— Что-то случилось? — спрашивает он, взгляд прикован к экрану компьютера.
— Почему ты всегда подозреваешь самое плохое? Разве мне нельзя заскочить просто потому, что я тебя люблю?
Притворная улыбка крадется по его лицу. Он справляется по каким-то бумажкам, что лежат слева от него, и неистово стучит по клавиатуре.
— Стипендию просадила, я угадал?
— Неа.
— Брось, Милли, не юли. Сколько тебе надо?
— Тысячу-две было бы неплохо, но не затем я к тебе явилась.
— О?
Он откладывает ручку и совершает поворот. Низкорослый в своем большом кожаном кресле, он кажется чопорным и важным. Я чувствую гордость за него и желание защитить.
— Мне просто стало интересно, вдруг ты не откажешься от ланча или чего-то в этом роде?
— Что — сегодня?
— Да, чуть попозже… Мне только что отдали …
— И все хорошо, у тебя нет никаких неприятностей?
— НЕТ, ПАПА! Мне отдали один долг, и я подумала, вдруг мне можно угостить тебя супом в «Намбер-Севен»?
Его лицо смягчается в мягкую улыбку. В настоящего папу.
— Классная идея. Тогда давай встретимся в два часа?
Он разворачивается обратно, сдвигает брови и подозрительно обозревает написанное на экране. Мои глаза шарятся туда-сюда по его кабинету. В нем очень по-папиному. Методично и все же небрежно. Его книги — а их здесь целые полки — расставлены по тематике. На письменном столе ни пылинки, зато настоящий полк пустых чашек выстроился по всей комнате со следами гулянки недельной давности. И воздух пахнет выдохнутым табаком. Красный «Мальборо».
— Разве тебе не идти на лекцию по классике? — говорит он, заглянув в мое расписание, пришпиленное на стенке над компьютером.
— Вроде бы, — я вздыхаю и неохотно встаю.
— Вот и топай.
— Знаешь, ты бы с ней побеседовал. Она бы добилась от нас куда больше толку, если бы ввела телесные наказания для тупых. Возмутительно, что она допускает такое в отношении студентов.
— Прошу прощения? — он поворачивается и снимает очки. — Больше не смей разговаривать подобным тоном о моих коллегах.
По моему лицу змеится ухмылка. Пора на попятный.
— Мои глубочайшие извинения, доктор О’Рейлли.
— Дуй! — хмыкает он. — Увидимся в два.
Я трагически вздыхаю и сцапываю со стола одну из книжек. «Сексуальная девиантность в послевоенной Великобритании».
— Милли, я вижу! Не вздумай терять — она не моя!
— Не буду, — соглашаюсь я, закрывая за собой дверь, и мы оба прекрасно знаем, что так я и сделаю.
Джеми
Сижу я здесь у окошка буфета, пялюсь на небо. Ниибацца красивое, ё. Большое, унылое и мрачное, что пиздец. Оно, небо это, маниакально депрессивное. Вывожу ее имя на экран мобильника. Надо разрулить это дело. Кому-то из нас. Это уже превращается в идиотизм. Большой палец у меня зависает над зеленой кнопкой, но потом перемещается на красную. Я не могу. Не хватит меня на то, чтобы в очередной раз выслушивать ее хуйню. Откусываю изрядный кусище от пирога, где одно сплошное тесто без мяса, падаю обратно на стул и опять втыкаю в похоронное движение неба. Ебучая Милли. Ест она мне мозг, уже достала.
Я беру телефон и опять ищу ее номер.
Три недели прошло с тех пор, как она кидалась камнями мне в окно, и все такое, но чего я мог поделать? Подписал на эту аферу Энн Мэри, дом вверх дном после вечерины — просто не срослось позвать малыша Милли зайти. Я смотрел, как она уходит. Плохо мне было, я вам скажу. Видел, она топает по улице, голову опустила, руки в карманы, и вот ей-богу, чувствовал себя последней сукой. Вернулся в постель и лежал там, думал про себя и Милли, и как все неправильно получилось. Были периоды, когда стиль и ритм нашей дружбы менялся. Типа того, когда она переживала после того, когда у нее мама с папой расставались, но всегда между нами было ощущение неизменности, и оно гарантировало, что мы переживем данную конкретную последнюю размолвку. Нашей дружбе ничего не грозило. И вдруг такое ощущение, что она резко нас разлюбила. Вроде, что она выросла и поняла, что нас не связывало ничего больше, кроме бурного подросткового романа. Вроде того, как получилось у нас с Сином пять лет назад. И ты не разрываешь отношения, а просто держишь их на безопасном расстоянии и лелеешь надежду, что судьба или география расширят пропасть между вами, и крушение дружбы станет невозможно приписать чему-то неприятному. И это можно будет отнести к разряду безвредных событий в духе наши пути просто разошлись.
Я пока что не готов, чтобы наши пути расходились. Ни сейчас, ни в будущем, если интересно знать. Слишком много всего между нами, и слишком много в будущем. Соскучился я ниибацца по маленькому зверенышу, это точно. Надо на хуй утрясать это дело.
Я по-новой вытаскиваю ее имя на экран. Жму зеленую кнопку указательным пальцем, подношу к уху, в горле большой идиотский комок.
Звонит, звонит. Представляю себе, как она пялится на экран и надеется, что следующий звонок будет последним, надеется, я возьму и сброшу вызов. Еще один прозвон, и так и поступлю. Сброшу ебучий вызов.
— Аа-лле?
Детский у нее голосок — весь такой маленький, хиленький и «что-тебе-надо». От этого чувство у меня такое, вроде я попал прямо туда и обнимаю ее. Глубоко вздыхаю.
— Приивет, дитенок — это твой старший товарищ. У меня тут прямо сейчас встреча, так что буду покороче. Хотел узнать типа — ну, я ж тебя сто лет не видел. Как ты насчет сегодня забухать или что-нибудь в этом роде?
— С тобой?
— Не, дитенок, с нашим на хуй Билли? Он вроде того, что теперь твой новый парень…
Следует короткая пауза. Я облажался. Не хуй быть таким ревнивым мудозвоном!
— Я б с радостью, Джеми. Ты не представляешь, насколько…
Спасибо, еб ты. У меня сердце чуть не отказывает от облегчения.
— Договорились — я забираю тебя ровно в шесть.
— И спасибо, что помнишь, Джеми.
Чего помнишь? Пытаюсь отгадать, но она сразу поясняет.
— Целых шесть лет, представляешь? С ума сойти, нет? Такое ощущение, что целая жизнь прошла — с того утра, как я к вам приперлась.
Блядь! Вот правильно.
— Знаю, дитенок. Мы это сделали? Я прикинул на тему, как бы нам отметить. Подумал, нам стоит на набережную и просто посидим. Я, ты, упаковка на шесть банок и курево. Сегодня река будет ниибацца серая, ё. Или можно провернуть, как мы в прошлом году — взяли и съебали в Уэльс и…
— Во! Давай так. Не думаю, что сегодня вечером буду в состоянии лицезреть город.
— Ладно, хорошо, давай посмотрим. Завтра тебе во сколько быть в универе?
— Ни во сколько.
Я ей не верю, ни на столечко, но выбора нет. Съезжу ей по мозгам за такие дела. Не сегодня.
— Замечательно, тогда, значит, решили, малыш. Мы забуримся на вершину Сноудона, так?
— Ой, Джеми! Мне просто не верится!
— Я знаю. Встречаемся в шесть ровно?
— Столько ждать. Ой, и, Джеми, ты видел это небо как у Joy Division?
— Думал, ты так о нем и не заговоришь. Дух захватывает, ниибацца Лос-Анджелес. Чуть башню не снесло, глядя на такое, ты понимаешь.
Я кладу телефон, сердце все еще колотится. Молодец я.
Милли
Торможу автобус и иду домой, счастливее, чем когда бы то ни было с начала этого года, и к моменту приближения к Сеффи-Парку чувствую смертельную радость по поводу будущего и спокойствие по поводу прошлого. Даже набросала в голове план несданных вовремя эссе и готова прямо сейчас их написать. Так, одно, по-любому, для Джеко. Там надо переписать любой пассаж из «Ромео и Джульетты» в стиле современной литературы. Я еще не решила, какой кусок гения Шекспира извращать, но несомненно возьму манеру Кельмана. И раннего Кельмана. Примерно того периода, когда он писал «Под солнцем», это одна из любимых книжек Джеми. Он мне ее подарил на пятнадцать лет. Я засунула ее в шкаф на девятнадцатой странице. Взращенная на диете из Бронте и Остин, я нашла Кельмана занудным и плоским. Один в один как Достоевский. Потом, спустя год, Джеми познакомил меня с Селби. Я обалдела. Он заставил меня откопать Кельмана и дать ему второй шанс. Начала читать в автобусе по пути в школу, остановившись только когда давно проехала школьные ворота, оказавшись у торгового центра «Боттл». Все до одной страницы были важными и переполнены смыслом. Кельман стал гением.