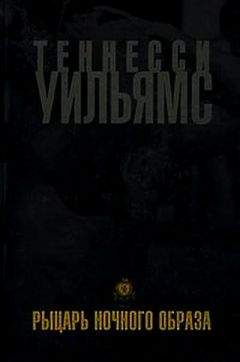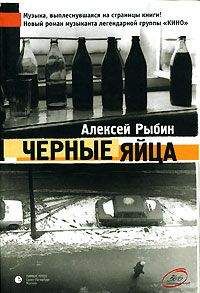«Сломя жопу» — это, конечно, способ «через жопу», и пока еще я в фаворе у всех вменяемых борцов за эти самые права по эту сторону от вьетнамской войны и от маньяков-педофилов.
Итак, я вернулся в прямоугольник с крючками, запыхавшийся, с бьющимся сердцем, и все еще дрожащий от пребывания на зимней крыше, и тут я услышал внизу гудки такси, повторяющиеся, как крики перелетных гусей по осени. Гудки раздавались со стороны главного входа на первый этаж заброшенного склада, и естественно, моей первой мыслью было: «Чарли вернулся на такси, и не может расплатиться, и вызывает меня вниз, чтобы заплатить за него сдачей своей крови. Или снова прибыли власти, чтобы отвезти меня на этот островной курорт на Ист-ривер?»
Разрываемый этими двумя возможностями, я стоял у фанерной загородки, прислушиваясь, колеблясь между опасением с надеждой и опасением потерять эту надежду, но тут внизу человеческий голос назвал меня по имени, и голос был женский, а не Чарли, но тем не менее я загремел вниз по лестнице на улицу, чтобы найти там в бездверном дверном проеме актрису Инвикту, героически закутанную в черную пелерину, с лицом из греческой трагедии, поднятом, словно для декламации на сцене.
Своим мощнейшим вокальным инструментом она спросила меня:
— Там ли он, наверху, и кто это такой увел его от Моизи, потому что у Феба его нет, и вообще нет нигде, хотя искала я его всю ночь?
Я так запыхался, что смог сказать только:
— Кого его?
— Моего Бога!
— Я не знаю, кто ваш Бог.
— Большой Лот моей жизни!
— Пожалуйста, только не кричите так. У нас с вами одна и та же проблема: а это не сценический диалог, к вашему сведению.
— Все, что я хочу — это информации, мне ни к чему кауардовские реплики в этот час!
— Ночь полна часов, но в нашей резиденции Чарли нет, а Большой Лот вообще никогда не числился в списке приглашаемых в наш дом — с тех пор как я был вычеркнут из его списка.
— Как, никогда?
— Желаете подняться и посмотреть?
Она начала подниматься, но отступила — наверное, впервые в своей жизни.
У нее драматически упал голос.
— Вы знаете, это не смешно.
— Я не хотел быть смешным, и я понимаю ваше стремление защитить Большого Лота — точно так же, как не понимаю его эксплуататорское отношение к вам.
— Тогда вы ничего не понимаете в любви.
— Не будем спорить по этому вопросу у занесенного метелью входа.
— Женская любовь совсем другая.
— Мы едем или остаемся? — закричал таксист.
— Едем, одну минуточку, — закричала она в ответ, снова моделируя свой голос так, как будто он должен достигнуть последнего балкона самого большого театра на Бродвее.
Ее глаза увеличились до невероятности, когда она снова повернулась ко мне.
— В моей жизни еще не было такой ужасной ночи.
— В моей тоже.
— Там, у Моизи. Меня так начало трясти при ее появлении, я хочу сказать, от ее состояния, и от этой прозрачной тряпки, что была на ней, что я ничего не поняла из ее объявления, разве только то, что в нем содержался призыв к Тони Смиту из Саут-Оринджа, правильно?
— Да, правильно.
— Прекрасно, тогда, пожалуйста, передайте ей, что я могу связаться с ним через Службу Знаменитостей — и сделаю это сегодня же. Я знаю и Джейн, и Тони — я знала их еще со времен голливудских дней с Францем, и уверена, что они откликнутся на ее призыв, но до того — вы не будете так добры передать Моизи эту двадцатку?
— Да. Конечно. Передам.
— Спасибо. А теперь скажите мне, где на этой земле смогу я найти своего Лота?
— Вы найдете его там же, где я нашел бы своего Чарли, если бы знал где.
— Ну и сучий ответ.
— Не спорю.
— Вы понимаете или не понимаете?
— Не понимаю и не знаю.
Как раз в этот момент кошка выскочила со склада с чем-то пищащим в зубах.
— Боже мой, — сказала она, — тут хуже, чем в Дакоте!
И тут все смешалось из-за высокой темной человеческой фигуры, переходящей улицу в направлении такси, которое стало отъезжать, а актриса закричала:
— Лот!
Когда все успокоилось, актриса стояла перед этой фигурой, которую она в истерике приняла за Лота, и визжала:
— Вы что, думаете, я стояла бы в этот час на углу, если бы у меня не было пистолета?
Человек повернулся и пошел, став намного ниже ростом.
— Может, зайдете ко мне и подождете?
Думаю, она меня не услышала.
Она зашагала прочь в своей героической черной пелерине, как будто в жизни никогда ничего не слыхивала об опасности волчьего часа, и, поднимаясь по лестнице к себе, я произнес:
— Итак, теперь я знаю, что любовь — это разрушение.
Но вернувшись к себе в прямоугольник с крючками, я подправил это легкое маленькое определение единственной вещи, которая больше чем жизнь, добавив к нему немного риторики.
— Среди прочего, что включает любовь — беспредельная, как жизнь, а может и как смерть — есть и разрушение собственного «я», а возможно, и объекта любви! — Что возвращает меня к давнишнему шепоту Моизи: «Это нехорошо, но это Бог».
* * *
Не осознавая сначала, что же такое было в комнате, что в ней давно отсутствовало, и чье отсутствие (я не имею в виду Чарли) очень меня тревожило, я сидел перед BON AMI, сжав карандаш, и всматривался, вслушивался, напряженный, как старый, согнутый от старости крестьянин в далекой воюющей стране мог бы всматриваться и вслушиваться в небеса, чтобы услышать или увидеть приближающиеся самолеты врага. Я не верю, что я знал — с самого начала — был ли это звук или вид чего-то, что перестало присутствовать в прямоугольнике с крючками в моей жизни. Я был, конечно, ошарашен — даже больше, чем когда сидел в напряженной тишине (исключительно моей собственной) палаты для буйных на острове на Ист-ривер.
(Простите за эти каракули, мои руки трясутся, мысли сбиваются, когда я пытаюсь писать маленькими, но читаемыми буковками на прачечной картонке номер два.)
Исчез постоянный до этого времени звук одноногого будильника, убранного мною в самый дальний угол прямоугольника, но который, хоть и приглушенный расстоянием, я слышал, и который напоминал мне о его существовании. Да. Он — он исчез, начисто, и то, что я этой ночью просто не завел его, не улучшило предзнаменования его внезапного молчания. Я почувствовал себя, как должен чувствовать себя старик, который всю свою жизнь — или большую ее часть — прожил у горного водопада, и который в один прекрасный день (или ночь), едва очнувшись ото сна, нежно баюкавшего его в этот час, вдруг обнаружил, что этот вечный шум водопада прекратился — без предупреждения.
Часо-биение, сердцебиение: ты не хочешь их слышать, но всегда веришь, что они с тобой, потому что если остановятся они, не будет тебя.
Остановка, остановка — кто же ее хочет, даже если речь идет о старой пародии на часы и о сердце, изношенном к тридцати годам.
Теперь не будет другого способа узнавать, еще ночь или уже утро — только периодически посещать поле битвы котов и крыс на пустом этаже склада.
После того, как мне стало ясно, что тиканье будильника исчезло, я сходил еще раз в эту безлюдную пустыню, увидел через окна, что время и на самом деле приближается к утру — хотя и тусклому из-за грязи на окнах и речного тумана. Я простоял там, парализованный тяжелой утратой, пока не принял эти совершенно новые условия жизни.
А потом я чихнул — раз, другой, третий — подряд. Я коснулся лба, почувствовал, что он горит, как горит и все тело, и прошептал себе: «Мне не пережить».
(Я не буду перечитывать этот кусок, потому что на нем лежит смущающий меня отпечаток жалости к себе — наиболее презренной из сохранившихся эмоций человечества, и от чтения я могу умереть на картонке номер два, как умер на ней мой будильник.)
Потом, потом, потом.
Сзади я услышал звуки — не будильника, не мои, в прямоугольнике с крючками, и я повернулся к нему, и пошел по направлению к узкой щели фанерной перегородки, которая пропустит тебя, если ты худой.
И там был Чарли — вернувшийся после своей ночной экскурсии, не поздоровавшийся со мной, а уставившийся вниз на мои армейские ботинки, которые он в этот момент расшнуровывал.
Тишину нарушил я.
— Чарли, я думал, что умру.
— А сам работаешь за BON AMI.
— А что мне еще делать?
— И я пришел к определенным выводам.
— Например?
— Узнал тебя.
— Лучше раньше, чем никогда.
— Наконец-то я знаю тебя, Чарли.
— Молодец, старик. Теперь можешь спокойно выйти, посмотреть на зеленый свет у Дейзи-дока и сдохнуть от тоски.
— Это не правда, как сказали Скотт и Джек Клейтон.
— Тогда иди и катайся на коньках, я устал как собака и хочу спать.
— Один.
— Надеюсь.
Сейчас он лениво, как стриптизер, снимал с себя одежду, инстинктивно провоцируя меня даже сейчас, но провокация была не такая, к какой я привык при его раздевании.